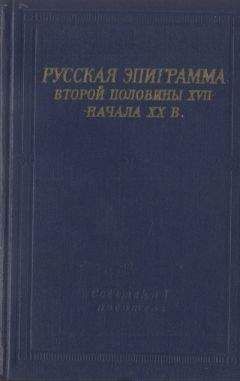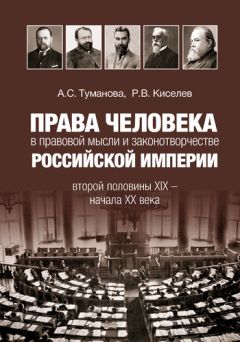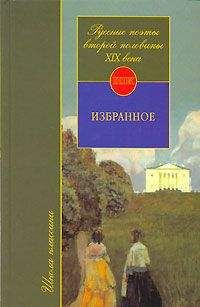не знал.
В огнеупорной каменной строфе
О сердце не упоминал.
(подходит к кофейнику и величественно в него заглядывает)
Суламифь
Куда ты лезешь? Ишь какой проворный!
Проваливай.
Тиж
Ваш кофе слишком черный!
(медленно удаляется, декламируя)
Маятник душ – строг
Качается глух, прям,
Если б любить мог…
Суламифь
Кофе тогда дам [204].
В больших компаниях с текучим составом подобное иногда случается: какого-нибудь человека превращают в мишень для постоянных насмешек («мы прозвали его M-elle Зизи»), и потом ему уже очень редко удается сменить навязанное амплуа.
Как бы то ни было, образ ни одного большого русского поэта первой половины XX столетия не подвергался такому сильному и массированному окарикатуриванию, как образ Мандельштама. Многие даже самые доброжелательные современники не удержались от шаржирования, иногда сосед ствующего с вполне искренней апологией. «Знаете, какие польются рассказы: “хохолок… маленького роста… суетливый… скандалист…”» – еще в 1956 году прозорливо делилась опасениями с Эммой Герштейн Анна Ахматова [205]. «Она имела в виду издавна бытующие в литературной среде анекдоты о Мандельштаме», – поясняет эту реплику Герштейн [206].
Но почему в литературной среде активно процветали анекдоты именно о Мандельштаме? Что провоцировало их возникновение и распространение?
Одной из причин, безусловно, был антисемитизм, которым, к сожалению, оказались заражены многие даже самые лучшие люди эпохи. Можно вспомнить о десятилетиями стыдливо сокращаемой в публикациях характеристике Мандельштама из дневника Блока: «“жидочек” прячется, виден артист» [207]; или о мандельштамовском прозвище в кругу Михаила Кузмина – «Зинаидин жидок» (это прозвище указывало на осторожную протекцию, которую оказывала юному поэту З. Гиппиус) [208]; или, наконец, о простодушной записи из дневника молодой слушательницы семинара Михаила Лозинского Марии Рыжкиной: «Во вторник на переводе был Мандельштам. Он очень интересен по внутреннему содержанию, и лицо в свою очередь у него недюжинное, но к несчастью он едва ли не жид» [209]. Однако эта причина не была главной. Не только потому, что многие мемуаристы, шаржированно изображавшие Мандельштама не были антисемитами, но и потому, что, например, на еврея Бориса Пастернака современники и, особенно, современницы, как правило, смотрели совсем иначе, чем на Мандельштама.
Некоторым современницам и современникам казалась смешной и нелепой внешность поэта («невообразимо забавный») – еще один очевидный повод для карикатуры. Но, во-первых, некоторые свидетели изображали его внешний облик как вполне заурядный («С первого взгляда лицо Мандельштама не поражало» – Надежда Павлович) [210], а некоторые писали даже о его изя ществе и элегантности («Прекрасно посаженная голова Мандельштама, его величественная и медленная повадка. Он – в черном костюме и ослепительной рубашке, респектабельный и важный» – Мария Гонта) [211]. А во-вторых, уж на что невыигрышной предстает почти во всех описаниях внешность, например, Николая Гумилева («…я в испуге увидела совершенно дикое выражение восхищения на очень некрасивом лице. Восхищение казалось диким, скорее глупым, и взгляд почти зверским» – Ольга Гильдебрандт-Арбенина) [212], однако число карикатурных словесных изображений автора «Заблудившегося трамвая» не сравнить с количеством уважительных, а то и восторженных характеристик, которых он удостоился в дневниках, письмах и воспоминаниях.
Едва ли не основная, на наш взгляд, причина окарикатуривания облика и образа Осипа Мандельштама многими современниками была точно сформулирована в мемуарах о поэте, написанных Эммой Герштейн:
Его импульсивность не всегда раскрывала лучшие черты его духовного облика, а нередко и худшие (даже не личные, а какие-то родовые). При впечатлительности и повышенной возбудимости Мандельштама это проявлялось очень ярко и часто вызывало ложное представление о нем как о вульгарной личности. Такое отношение допускало известную фамильярность в обращении. Но он же знал, что его единственный в своем роде интеллект и поэтический гений заслуживали почтительного преклонения… Эта дисгармония была источником постоянных страданий Осипа Эмильевича [213].
В пандан к этой характеристике приведем здесь и проницательное наблюдение из записной книжки Лидии Гинзбург 1933 года:
Мандельштам слывет сумасшедшим и действительно кажется сумасшедшим среди людей, привыкших скрывать или подтасовывать свои импульсы. Для него, вероятно, не существует расстояния между импульсом и поступком, – расстояния, которое составляет сущность европейского уклада [214].
Импульсивность, впечатлительность, повышенная возбудимость – все это свойства холерического темперамента. По-видимому, как раз аффектированные и не скрываемые от насмешливых и/или удивленных глаз свидетелей реакции холерика Мандельштама на внешние раздражители («Для него, вероятно, не существует расстояния между импульсом и поступком») сыграли определяющую роль в становлении его прижизненной репутации. Многое с годами в личности и поведении поэта менялось, но не это.
Вот отрывок из мемуаров Михаила Карповича, изображающий Мандельштама весной 1908 года:
…в Париже умер Гершуни, и эсерами было устроено собрание, посвященное его памяти. Мандельштам выразил живейшее желание со мной туда пойти, но думаю, что политика была здесь ни при чем: привлекали его, конечно, личность и судьба Гершуни. Главным оратором на собрании был Б. В. Савинков. Как только он начал говорить, Мандельштам весь встрепенулся, поднялся со своего места и всю речь прослушал, стоя в проходе. Слушал он ее в каком-то трансе, с полуоткрытым ртом и полузакрытыми глазами, откинувшись всем телом назад, так что я даже боялся, как бы он не упал. Должен признаться, что вид у него был довольно комический. Помню, как сидевшие с другой стороны прохода А. О. Фондаминская и Л. С. Гавронская, несмотря на всю серьезность момента, не могли удержаться от смеха, глядя на Мандельштама [215].
А вот описание Семеном Липкиным одного из эпизодов на вечере Мандельштама весной 1934 года:
…был устроен в Политехническом музее вечер Мандельштама. <…> Вступительное слово произнес Борис Эйхенбаум. <…> Признаюсь со стыдом, я плохо слушал маститого докладчика, <…> как вдруг откуда-то сбоку выбежал на подмостки Мандельштам, худой, невысокий (на самом деле он был хорошего среднего роста, но на подмостках показался невысоким), крикнул в зал: «Маяковский – точильный камень русской поэзии!» – и нервно, неровно побежал вспять, за кулисы. Потом выяснилось, что ему показалось, будто Эйхенбаум недостаточно почтительно отозвался о Маяковском (этого не было, Мандельштам ослышался). Не все в зале поняли, что на подмостки выбежал герой вечера [216].
Позволю себе осторожно предложить здесь объяснение того странного, на первый взгляд, обстоятельства, что на впечатления большинства современников от Мандельштама не оказывал решительного воздействия его «поэтический гений», его стихи. Это обстоятельство изумляло, в частности, Ахматову:
Почему мемуаристы известного склада (Шацкий, Страховский, Миндлин, С. Маковский, Г. Иванов, Бен. Лившиц) так бережно