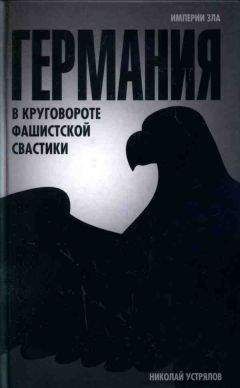поставить исторические рытвины в вину этой идее?»
Ответим: – Конечно, следует отличать проявления правовой идеи от нее самой. Но отсюда еще не следует, что судьба «проявлений» ей абсолютно индифферентна. Поэтому нам и пришлось подчеркнуть, что «роковые минуты» человеческой истории указывают пределы, фиксируют подлинное содержание правового принципа.
Дело в том, что идея должна быть активной и творческой, – «реальность чистого долга есть воплощение его в природе и чувственности» (Гегель). Идея немощная и бессильная (только «регулятивный принцип», только мыслимое «отнесение к ценности») не удовлетворяет конкретного сознания. Недаром отвлеченный нормативизм, как нам придется убедиться впоследствии (в курсе), преодолевается нынешней наукой права, сознающей его недостаточность. Одним из существенных элементов содержания идеи права должна быть признана ее связь с действительностью, с «реальным рядом». Отсюда уразумение сущности понятия права, отсюда же – и точное определение границ (ограниченности) «правовой системы» – условий возможности применения юридических принципов.
Тут нет ничего «обидного» для «чистой идеи»: она не должна быть абстрактной, отрешенной от порядка бытия. И ее неспособность «охватить» собою жизнь означает известную ущербленность ее, относительность, ограниченность. Но тут опять-таки нет для нее чрезмерного унижения: абсолютной и совершенной характеризуется лишь Верховная Идея, платоновское «Солнце умопостигаемого мира»…
Если современная наука государственного права приходит к выводу, что само государство, как стихия власти, «неисчерпаемо в юридических категориях», не поддается полностью правовому оформлению, – то что же говорить о всемирной истории вообще? В рациональных юридических формулах не выразить ее сущности: – «под нею хаос шевелится» [69], и этого хаоса не изжить до ее конца.
«Хлеба и зрелищ!» – издревле кричали народные толпы, ниспровергая принцип «законной преемственности» правовых установлений. «Да приидет царствие Твое!» – восклицала Церковь на заре средневековья, ополчаясь против земного права. «Моя родина – выше всего!» – заявляет боевой национализм, загораясь безбрежными планами и разрывая договоры, как клочки бумажек. «Да здравствует мир и братство народов!» – провозглашает современный интернационал, объявляя все «старое право» сплошным «буржуазным предрассудком», подлежащим насильственному слому.
И всем этим лозунгам столь же бесплодно противопоставлять абстрактный правовой принцип, сколь, скажем, нелепо было убеждать христиан ссылками на «дух» римского кодекса. «Иной подход», «разные плоскости»…
Когда в мир входит новая сила, новая большая идея, – она проверяет себя достоинством собственных целей и не знает ничего, кроме них. Путь права – не для нее, она «обрастает правом» лишь в случае победы («нормативная сила фактического»). Она рождает в муках, разрывая правовые покровы, уничтожая непрерывность правового развития («пробелы в праве»). Таково уже свойство «творцов новых ценностей», вокруг которых, по слову Ницше, «неслышно вращается мир».
И мы, таким образом, приходим к выводу, что в иерархии ценностей праву принадлежит подчиненное место. Выше него – нравственность, эстетика, религия. Большие исторические движения допускают известное «оформление» именно нравственными, эстетическими и религиозными категориями, но не правовыми. С точки зрения последних они иррациональны, и потому еретичны, отрицательны, злы. Вот почему юристы-догматики в массе обычно «остаются за флагом» в таких движениях. Их время приходит потом, когда нужно уже фиксировать результаты кризиса. Тут они совершенно необходимы, и без них дело не обходится.
Да, прогресс не есть гладкая дорожка. Недаром утверждают, что человечество им искупает «первородный грех», свое роковое несовершенство, – «радикальное зло» (Кант). Прогресс есть прежде всего искупление. Вот почему он катастрофичен (предсмертная мысль Вл. Соловьева). Его катастрофы суть одновременно проклятие и благословение человечества: будучи следствием «испорченности» человеческой природы, они вместе с тем – залог ее исцеления.
Катастрофы порождаются торжеством «силы» над «правом». Путь права есть путь от одной исторической катастрофы к другой. Человечество отдыхает на этих переходах, и в том их огромное благотворное значение. Но уж так устроен человек, что затянувшийся отдых ему непременно начинает надоедать. Вот почему в периоды «исторических затиший», исторических будней люди тоскуют по бурям —
Как будто в буре есть покой… [70]
Вот почему так проникновенно пишет Тютчев о блаженстве того,
Кто посетил сей мир
В его минуты роковые:
Его призвали Всеблагие,
Как собеседника на пир… [71]
И вот почему все истинно творческое в истории, как и в жизни, покупается не даром, рождается в страданиях.
Эту мысль выразил де Мэстр в намеренно-резких, но ярко запоминающихся образах:
«Следует обрезать ветви дерева, чтобы вырастить плоды. Цветы и плоды человечества получаются благодаря этой «срезке ветвей» (кровавые войны и потрясения). Кровь – удобрение для процветания того растения, которому имя гений» («Considerations sur la France»[ «Рассуждения о Франции» – фр.]).
Бессмертным документом той же мысли является творчество нашего Достоевского. Эта же мысль в глубоком, хотя и чересчур насыщенном, чтобы не казаться вычурным, образе формулирована заключительной фразой гегелевской «Феноменологии Духа»:
«История, выраженная в понятиях, образует воспоминание и Голгофу абсолютного Духа, действительность, истину и достоверность его трона, без которого Дух был бы лишен жизни и одинок; лишь из чаши царства духов пенится для него бесконечность».
Резюмируя соображения о разуме права и праве истории, мы могли бы сказать, что великие эпохи жизни человечества – не суд над фактами перед трибуналом права, а суд над правом перед трибуналом всемирной истории.
1
Теперь все отчетливее вырисовывается истина, что великая война не была лишь историческим эпизодом, пусть эпизодом огромным и громким. Все очевиднее, что она была чем-то более значительным, знаменательным, символическим. Каким-то эпилогом и прологом одновременно.
Нам, современникам, недоступен весь смысл совершающихся событий. Но мы не можем не ощущать, что живем на большом каком-то историческом рубеже, на перекрестке эпох, когда на очереди переоценка культур, смена народов. И в пространстве, и во времени – знаки перелома, кризиса. И внешние наблюдения, и внутренние интуиции сливаются воедино, чтобы обличить всю глубину творящейся исторической драмы. И политики, и историки, и философы согласно констатируют исчерпанность целой грандиозной полосы жизни человечества, предугадывают нарождение новой, конкретно еще неопределимой полосы.
Великая война была не причиной, в результатом. Кажется, ни одна из войн в истории не была до такой степени предопределена, фатально обусловлена всем составом идей и фактов предшествующего развития. Неизбежность катастрофы почти физиологически ощущалась в напряженной, удушливой атмосфере предвоенного периода. В непробудной тишине разливающейся мглы имеющие уши, чтобы слышать, явственно угадывали грядущее «начало высоких и мятежных дней». Несмотря на все гаагские конференции, вопреки процветанию всевозможных морально-гуманитарных принципов, независимо от роста материальных богатств – таился в душе и теле цивилизации роковой надрыв, непрерывно работали какие-то подземные разрушительные силы. И вот заколебалась почва, срок исполнился: