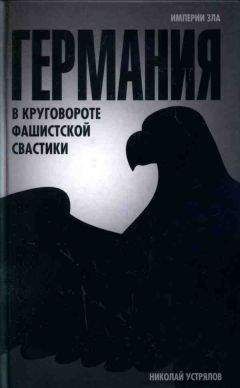Крылами бьет беда
И каждый день обиды множит… [73]
Многие мечтали, что война исцелит недуги, следствием коих она явилась. Охотно уподобляют ее благодетельной грозе, освежающей атмосферу, заставляющей деревья зеленеть. Или – прорвавшемуся нарыву; к выздоровлению, к здоровью. «Война против войны». Вечный мир. «Последняя война». Химеры, химеры!..
Сколько лицемерия принесла с собою эта злосчастная схватка народов, с начала ее до конца, от венского ультиматума до Версаля. Пожалуй, в лицемерии растворялось и то действительно героическое, что она обнаружила пятью годами испытаний, усилий, смертей. Никогда, кажется, ложь так не смеялась над смертью, любовью, славой. Было время, когда кровь искупала, освящала, спасала, творила нетленные ценности. Но теперь – она лишь претворялась в «сверхприбыль», она перестала быть «соком совсем особенным». Многие верили, что героизм любви, трагедия смерти победят упадочность заката века. Но нет: ведь грозы не освежают осенью, горячий тиф благотворен лишь в юности. «Есть разные волнения, – метко писал об этом К.Леонтьев. – Есть волнения во время, ранние, и есть волнения не во время, поздние. Ранние способствуют созиданию, поздние ускоряют гибель народа и государства».
После войны не наступило мира. Выяснилось, что «выиграть мир» гораздо труднее, чем даже выиграть войну. И в этом смысле можно сказать, что война прошла впустую. Длится ненависть, длится ложь, лицемерие. Ложью еще пытаются спаять, склеить рассыпающуюся цивилизацию, спасти цивилизованное человечество. Но и ложь стала мелкой, «достойной кисти Эренбурга» (Х.Хуренито) [74]: обмельчала, выцвела идея, которой тщатся пасти человеческие стада. Вместо адамантова камня веры – розовенькая водичка либерального, резонерствующего «моралина». Вместо Священной Римской Империи – лига наций…
В душах европейских людей истощается вера в социальный и политический авторитет, ибо мало-помалу растрачивались предпосылки этой веры. Недаром в свое время Гюйо видел основу всех религий в «мифический или мистической социологии». Когда из общества улетучивается иррациональное, – общество начинает шататься: излишняя трезвость действует на него опьяняюще.
Ферреро в известной книжке «Гибель западной цивилизации» очень выпукло отмечает роль «принципа власти» в жизни народов. Распад, подрыв, развенчание этого принципа – предсмертная судорога соответствующего социального организма. И корень тяжкого недуга, охватившего современную Европу, Ферреро склонен видеть именно в крушении самого основания, психического фундамента власти. «Мировая война, – пишет он, – оставила за собою много развалин; но как мало значат они по сравнению с разрушением всех принципов власти!.. Что может произойти в Европе, позволяет нам угадать история III и V веков. Принцип авторитета есть краеугольный камень всякой цивилизации; когда политическая система распадается в анархию, цивилизация, в свою очередь, быстро разлагается».
В этих словах бесстрашно и ярко схвачена болезнь нашего времени. И вместе с тем они наводят на дальнейшее размышление. В чем же общая причина шаткости современной власти, удручающего распада авторитетов? Почему не удается нынешней демократии построить прочную и здоровую, уверенную в себе государственность? Тут уже от проблем политических и государственно-правовых логика нас ведет к философии истории, к фундаментальным вопросам социологии. Но тем очевиднее становятся для нас «критические» черты наших дней, глубина и радикальность перелома. По-видимому, он не исчерпывается резкими, но все же по существу фасадными переменами в стиле начала прошлого века – наполеоновских войн и венского конгресса. Начинает казаться, что он требует каких-то более грандиозных аналогий.
Недаром А.Блок писал в 20-м году, вспоминая Вл. Соловьева:
«Все отчетливее сквозят в нашем времени черты не промежуточной эпохи, а новой эры, наше время напоминает собою не столько рубеж XVIII и XIX века, сколько первые столетия нашей эры» [75].
2
Война была выиграна во имя демократии. Но война же похоронила демократию. Вернее, демократия войной не только сокрушила последние монархии, но и разрушила сама себя – «победив изнемогла». И сейчас бьется в тяжелой агонии, как разбитый большой механизм: какие-то колеса еще вертятся по инерции, кой-где еще веет от стали теплом, суетятся кругом люди, но сила живая уже отлетела прочь…
Война поразительно выявила механичность современного общества, современного государства. Выявила, сломав этот механизм. Страшная разрушительность войны свидетельствует не только об успехах новейшей техники, но и о своеобразном артериосклерозе обществ европейских, утративших упругость здоровых тканей. Государства, превращаясь из организмов в машины, становятся ломкими и хрупкими. Утрачена органическая связь между элементами целого, заменяясь условными, нарочито высчитанными «сцеплениями». Поэтому после военного удара «целительная сила природы» с небывалым как будто упрямством не хочет принимать участия в восстановлении Европы. Словно природа мстит за ее умерщвление, за убийство ее новой философией, новой наукой, новой цивилизацией. Ну, а искусственные «репарации» что-то не слишком удачно исполняют роль лекарства…
Подъем образованности, «сознательности», материального благополучия в массах европейских неудержимо влек за собою усложнение их потребностей, рост их претензий, укрепление в них духа зависти, отрицания, критиканства. Случилось так – и, должно быть, не могло не случиться, – что прогресс просвещения не только не сопровождался подлинным нравственным прогрессом, но развивался за счет старых нравственных устоев, начал, поверий. Исчезали иррациональные «вещи и призраки», выцветала голубая кровь, рассыпалась белая кость, но на их место не шли новые талисманы, способные двигать социальными горами. Придумывались лишь суррогаты, бессильные держать в берегах волнующееся человеческое море. Усиливался личный эгоизм при ослаблении личной оригинальности, развивалась сила взаимного отталкивания при успехах «смесительного упрощения», возрастала вражда между классами и общественными группами, ставя каждый класс и каждую группу в ненормальные условия жизни и деятельности, разгоралась личная и общественная нетерпимость.
Все эти идеи утилитаризма, солидаризма, гуманитаризма, старавшиеся преодолеть эгоизм на его собственной почве, надеть на него маску альтруизма, построить своего рода «посюстороннюю религию» – разбивались в противоречиях и откидывались жизнью, сама любовь к родине превращалась в культ воинствующей жадности, ссорившей из-за добычи государства победившей коалиции, классы побеждавшего государства, группы победившего класса. «Под Лейпцигом в последний раз сражались за идею» (Шпенглер). «Шибер» (от нем. der schieber – спекулянт) заслонил собою «неизвестного солдата». И Марс обиделся, что его стали расценивать на вес, отвернулся от победителей, как и от побежденных. Интересы оказались социально бездарнее, бесплоднее идей. Ведь еще Аристотель отмечал роковую хрупкость общества, построенного на эгоизме его элементов, не спаянного высшими началами, нравственными или религиозными. «Смесь страха и любви – вот чем должны жить человеческие общества, если они жить хотят», – утверждал наш К.Леонтьев. Хитроумными комбинациями, мастерскими манерами старается старая Европа предотвратить окончательную катастрофу: все чудеса парламентской техники, покладистой печати патетических ораторов прирученного социализма – к ее услугам. Но эти фальшфейеры все же не заменят угасшего очага, священного огня, вырванного из людских душ…
Полнеба охватила тень.
Вот почему и бесконечные политические перемены, происходящие ныне