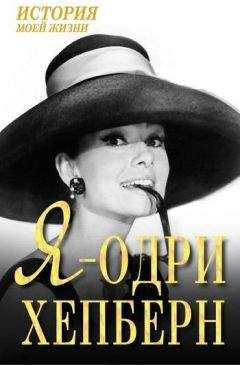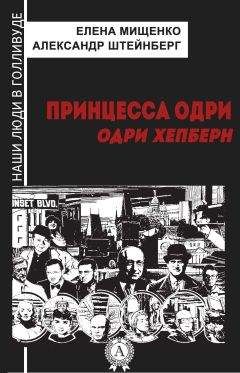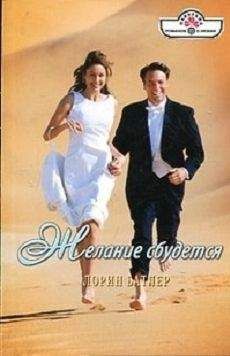ли я это применить? Что мне с этим делать?» Мне нужно попытаться сделать шаг назад и не погружаться в то, что ты так настойчиво провозглашаешь. Получается, часть меня хочет полностью противостоять, другая часть хочет полностью согласиться, но еще есть место между ними, где я и должна найти себе почву под ногами. Я не могу себе позволить отбросить твое восприятие или притвориться, что я понимаю тебя, когда это не так. И кроме того, если это вопрос расизма – и я имею в виду не только явное насилие, но и все различия в наших способах видения, – то всегда есть вопрос: как мне это применить? Что мне с этим делать?
Одри: «Сколько этой правды я могу увидеть / и жить дальше / неослепленной? / Сколько этой боли / могу я применить?» [116] Всем нам мешает двигаться вперед неспособность поставить этот ключевой вопрос, отказ от этого важного шага. Ты читала статью, которую я написала для «Черного ученого» [117]? Эта статья была полезной, но ограниченно, потому что я не поставила какой-то важный вопрос. И не задав себе этот вопрос, не осознав, что этот вопрос существует, я лишила эту статью большого количества энергии. Я всё перечитывала ее и думала, что она не такая, какой должна быть. В то время мне казалось, что я сдерживаю себя, потому что в «Черном ученом» это было бы совершенно неприемлемо. На самом деле проблема была в другом. Я сдерживалась, потому что не задала себе вопрос: «Почему женщины, любящие женщин, представляют такую угрозу для Черных мужчин, если только Черные мужчины не хотят занять место белых мужчин?» Это был вопрос о том, сколько я могу выдержать, и о том, что я не осознавала, что могу выдержать больше, чем мне тогда казалось. И еще это был вопрос о том, как применить это восприятие, если не просто в ярости или разрушении.
Адриенна: К слову о ярости и разрушении, что ты на самом деле имела в виду первыми пятью строками «Власти» [118]?
Одри: «Разница между поэзией / и риторикой / в готовности / убить себя / вместо своих детей». Что я чувствовала? Я была поглощена делом…
Адриенна: Белого полицейского, который застрелил Черного ребенка и был оправдан. Мы с тобой ходили обедать вместе примерно в то время, когда ты писала это стихотворение, и ты только об этом и говорила.
Одри: Я вела машину и услышала по радио новость о том, что этого копа оправдали. Меня тошнило от ярости, и я решила остановиться и просто записать что-нибудь в блокнот, чтобы быть в состоянии проехать через город и не попасть в аварию, настолько меня захлестывало отвращение и гнев. И я записала эти строки – я просто писала, и это стихотворение вышло без всякого сочинения. Наверное, поэтому я и рассказала тебе об этом, потому что я не воспринимала его как настоящее стихотворение. Я думала о том, что убийца учился в Джон-Джее, что я, возможно, видела его в коридоре или еще увижу. Где возмездие? Что можно было сделать? Среди присяжных была одна Черная женщина. Это могла бы быть я. А я вот преподаю в колледже имени Джона Джея. Должна ли я его убить? Какой должна быть моя роль? Убила бы я ее тоже – Черную женщину в коллегии присяжных? Какая сила была у нее, могла бы быть у меня, в момент, когда она решила занять позицию…
Адриенна: Против одиннадцати белых мужчин…
Одри: …этого атавистического страха перед коллективной властью, которая находится не в твоих руках. Вот суд присяжных – белая мужская власть, белые мужские структуры – как занять позицию против них? Как встать на позицию угрожающего различия, не оказавшись убитой или убийцей? Как обращаться с тем, во что веришь, как жить этим не как теорией, не как эмоцией даже, а прямо на линии действия, воздействия и перемен? Всё это вошло в эти стихи. Но в то время у меня не было никакого чувства, никакого понимания связей – только понимание, что я и есть та женщина. И что выйти на линию огня, чтобы сделать то, что должно, в любом месте и в любое время, – это так трудно, но и абсолютно необходимо, а не сделать этого есть самая ужасная смерть. И выйти на линию огня – всё равно что убить часть себя, в том смысле, что ты должна убить, закончить, разрушить что-то привычное и надежное, чтобы могло появиться что-то новое в нас самих, в нашем мире. И это чувство письма на краю, из безотлагательности, не потому что ты выбираешь его, но потому что ты должна, это чувство выживания – вот из чего вышли эти стихи, а еще из боли от смерти моего сына по духу, снова и снова. Однажды прожив любую часть своего видения, ты открываешь себя постоянному натиску. Необходимостей, ужасов, но и чудес, и возможностей тоже.
Адриенна: Я как раз хотела сказать: расскажи про другую сторону.
Одри: Чудес, абсолютных чудес, возможностей – это как непрерывные звездопады, метеорные дожди, постоянные связи. И потом пытаешься отделить то, что полезно для выживания, от того, что искажено, разрушительно для твоего «я».
Адриенна: Есть столько вещей, с которыми нам нужно это проделать – отбросить искажения, сохранить то, что мы можем использовать. Даже в том, что создали люди, которыми мы бесконечно восхищаемся.
Одри: Да, взять на себя обязательство быть избирательно открытыми. Мне пришлось сделать это с моим физическим выживанием. Как мне жить с раком и не сдаться перед ним в тех разнообразных смыслах, в каких это возможно? Что мне делать? И ведь когда сталкиваешься с этим, некому даже рассказать тебе о возможностях. В больнице я всё думала: ну, где-то должна же быть кто-то, какая-то Черная лесбиянка-феминистка с раком, как она с этим справлялась? А потом я поняла: эй, дорогая, пока что это ты и есть. Я читала все эти книги, а потом поняла: никто мне не объяснит, как через это пройти. Я должна тщательно выбирать, смотреть, что подойдет. Решимость, поэзия – да, всё в работу.
Адриенна: Я помню, как тебе только сделали первую биопсию, в 1977 году, и мы обе должны были выступать на панельной дискуссии в Чикаго. О «Преобразовании молчания в язык и действие». И ты сказала, что ни за что не пойдешь в Ассоциацию современных языков – помнишь? Что ты не можешь, что тебе это не нужно, что это не может представлять для тебя никакой важности. Но в итоге ты