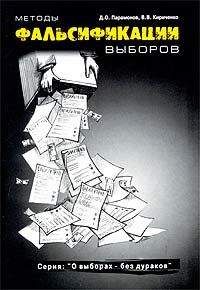Иван Карамазов связывает геометрию Вселенной с понятием Бога следом за Кантом, почти буквально повторяя ход его рассуждений — великий философ начинал свою цепь построений не с самой небесной механики, а с ее истинного научного фундамента, евклидовой геометрии. Он блестяще знал геометрию и особенно восхищался тем, что все ее теоремы выводятся из минимального числа аксиом. Это тоже возводилось у него к Богу.
Таким образом, кантовский Бог есть как бы исходный геометрический постулат, положенный в основу мира. И он же есть абсолютная основа нравственности. В основе мертвой и живой природы помещается, фигурально говоря, триединое начало: оно Бог, оно же Нравственность и оно же Геометрия.
Как мне кажется, такое строение мира должно было чрезвычайно импонировать Достоевскому. Но вот появились геометрии Римана и Лобачевского, и одно из кантовских начал перестало быть единственно возможным. Даже начало начал — аксиомы потеряли свой абсолют, появились иные измерения пространства, параллельные линии стали пересекаться…
Я думаю, Достоевского это пошатнуло. Во всяком случае, Иван Карамазов реагирует на риманову геометрию настолько серьезно, что сомневается в бытии Бога: «если Бог есть»…
И так уже вышло, что при жизни Булгакова, в его зрелые годы стала греметь теория относительности Эйнштейна. Это была сенсация, объединение геометрии с космологией: пространство действительно четырехмерно, параллельные линии должны сходиться не в воображаемом геометрическом, а в действительном Космосе. Для булгаковского поколения Достоевский оказался провидцем и здесь. И о пристрастии Эйнштейна к Достоевскому было достаточно хорошо известно.
Болтовня Коровьева о фантастическом за-эйнштейновом пятом измерении в связи с жилищным кризисом не менее серьезна и не более буффонадна, чем его же болтовня о писателях и гниющих ананасах. Это скрытая отсылка к первоосновам мира; значок, указывающий на Канта и Достоевского, искателей добра и справедливости. На своем языке шута Коровьев говорит тем, кто может его понять, что страдания из-за жилья — не мелочи, якобы недостойные внимания коммунистов, а нарушение нравственного закона. «Пятое измерение» обозначает дьявольское дополнение к миру, созданному — перефразируя Достоевского — в эйнштейновой геометрии…
Следом за Иваном Карамазовым идет Коровьев, его второе литературное отражение, когда связывает геометрию Космоса с мучениями людей. Ибо так и поворачивает Иван:
«Я хотел заговорить о страданиях человечества вообще, но лучше уж остановимся на страданиях одних детей. …Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за отцов своих… съевших яблоко — но ведь это рассуждение из другого мира, сердцу же человеческому здесь на земле непонятное» (с. 298).
Выходит, люди страдают невинно — то есть не за грехи даже, ибо дети не успели нагрешить (вспомним Воланда!). И затем Иван говорит о детях. Такого вопля ужаса, такого обвинения, направленного против Бога и людей, мне кажется, нет в мировой литературе — по крайней мере, обвинения, произнесенного верующим писателем. Турок, «раздробляющий головку» младенцу; семилетняя девочка, иссеченная розгами; пятилетняя девочка, тельце которой родители «обратили в синяки» и «наконец дошли и до высшей утонченности: в холод, в мороз запирали ее на всю ночь в отхожее место, и… обмазывали ей все лицо ее калом и заставляли ее есть этот кал…» (с. 303).
Усилить обвинение уже невозможно; еще шаг, еще крик — повествование уйдет из литературы в публицистическую проповедь. И конечно же, конечно — как бы ни смотрел сам Достоевский на «Божий мир», в страшных словах литературного героя вопиет душа писателя: «Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре своей…» (с. 307)[96].
…Перечитывая «Мастера», я все время думаю о литературной эстафете, принятой Булгаковым. Нет, это дурное сравнение; не палочку поднял он, а сизифов камень, и потащил его вверх, навстречу грохочущему камнепаду слов о высшей гармонии коммунистического будущего — увертываясь, закрывая руками голову, падая. Он даже не мог никому из героев передоверить свои мысли, он мог только извернуться — и велеть Коровьеву, сколку с черта Ивана Карамазова, переиграть слова самого Ивана. Чтобы будущий читатель, на которого Булгаков рассчитывал, раскрыл «Братьев Карамазовых», нашел место о «большем числе измерений» — и увлекся, и стал читать, и добрался до таких слов Ивана: «Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно» (с. 308).
Таково политическое кредо Булгакова в «Мастере и Маргарите». «Не по карману» было ему и его народу платить за вход цену, которая с него спрашивалась. Этот политический тезис теснейшим образом связан с его этическими воззрениями, о них уже кое-что говорилось, но основное еще впереди. «Квартирный вопрос» для него никоим образом не мелочь, а вопрос и политический, и этический, ключевой — как для Ивана Карамазова ключевым, показательным было страдание детей.
Коммунистическая гармония рисовалась утопистам прежде всего как всеобщая сытость и благоустроенность[97].
Но вот устроили это гармоническое общество — а вышел обман. Дьявольское «пятое измерение» появилось, к которому приходится прибегать, чтобы жить по-человечески…
Поэтому люди если и изменились внутренне, то в худшую сторону — их испортили.
Связывая человеческое жилье с этико-философскими проблемами, Булгаков одновременно напоминает нам об ином Достоевском, уже не о христианском философе, а писателе-гражданине. «Муза его любит людей на чердаках и подвалах», — сказал об этом Достоевском Белинский. Его истинные страдальцы, и дети, и взрослые, — не жертвы турок или сумасшедших маньяков, а бедняки, живущие всегда в ужасных условиях. Истинные — обыденные; те, кого он начал описывать едва ли не первым в Европе, бедные люди. Макар Девушкин из «Бедных людей» с его комнатенкой, выгороженной из кухни, где стоит «гнилой, остро-услащенный запах какой-то» и с такой духотой, что «чижики так и мрут», с постоянным шумом, не дающим заснуть, и развратом: «а иногда и такое делается, что зазорно и рассказывать». Его соседи занимают в этом «содоме» впятером одну «комнатку». «Преступление и наказание»: «каморка» Раскольникова, похожая на гроб, — крюк на двери можно отворить, не вставая с кровати. Жилье Мармеладовых — «беднейшая комната шагов в десять длиной», снова с вонью, духотою, с дверьми, открытыми на черную лестницу и в какие-то «внутренние помещения», откуда «неслись волны табачного дыма». В этом аду они живут с двумя детьми, причем мать семьи в чахотке. «Идиот»: врач из провинции, ютящийся в петербургском доходном доме; снова жена и двое детей, снова надо пробираться через «крошечную кухню», потом через «ужасно низенькую» клетушку, чтобы попасть в жилую комнату, которая еще «уже и теснее предыдущей».
«Братья Карамазовы» — то же самое в избе, занимаемой Снегиревыми. Снова живут четверо (да пятая приехала в гости), больных сначала двое, потом трое. Действительно — «недра», как и сказал Снегирев. Разумеется, душно, и, само собой, через комнату протянута веревка и что-то сушится. Так везде. Ад, устроенный людям на земле. И вот что надо заметить: у Раскольникова была хотя каморка, да отдельная, то же у Девушкина — свои стены, своя «келья», в которой надежду еще можно хранить. У Снегирева надежды нет. Раскольников идею Достоевского выражает прямо: «А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят! О, как ненавидел я эту конуру!»[98] Булгаков откликается: «Уу, проклятая дыра!»
Такова далеко не полная библиография «квартирного вопроса» у Достоевского. Настойчивыми возвращениями к теме дурного человеческого жилья Булгаков утверждает свое кровное родство с Достоевским. Два символа ада: веревка с бельем и орущий примус — вот знаки единства миропонимания.
Но у Достоевского из-за подвальной конуры доносчики не посылали людей на верную гибель. Это уже — новация социалистической России. Иуда за горсть серебряных монет отправил Иешуа на казнь. Могарыч донес на Мастера за право жить в подвальных комнатушках…
…Первой вспыхивает «нехорошая квартира», потом валютный магазин, потом Дом писателей. Три темы, кажущиеся веселенько-сатирическими: «квартирный вопрос», «валюта», «массовая литература», — этими пожарами объединяются. Поджигая свою квартиру, подвал Мастера, Маргарита кричит: «Гори, страдание!» Не квартиры и не магазин жгли, а страдание…
Мы пока оставили проблему «билета на вход». Постараемся о ней не забыть, ибо Иешуа Га-Ноцри убили за предсказание «будущей гармонии»: «Человек перейдет в царство истины и справедливости». Отложим это пока что; еще не все маски разгаданы, и начатое надо закончить. Из свиты как будто извлечено все возможное; пора обратиться к принципалу. Вернемся к первому упоминанию о Достоевском в этой работе, к теме карамазовского черта.