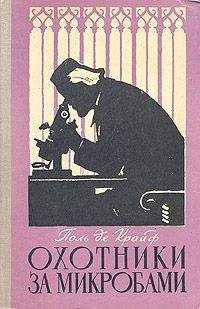— Люди больше не хотят развлекаться сами, — сказала мне Арлин Деймен, молодая дама, управляющая отелем на пару с мужем, — прежде молодежь купалась по ночам, теперь не то — они опасаются испортить прическу. Посмотреть на них — и не подумаешь, что они приехали в горы.
И в завершение две запавших в память картинки жизни Катскиллов (округ Салливан).
Покидая «Лорелз», я — правда-правда — увидел, как молодая пара загорает под соллюксом у подогретого закрытого бассейна, при том, что день был теплый, в самый раз для купанья в озере за окном.
В «Браунз», где «ЕСТЬ ВСЕ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ», гости, и таких немало, презрев здешние — а каких тут только нет — развлечения, засели на террасе с видом на автостраду: смотрели на пролетавшие мимо машины, на входящих и выходящих. Судя по всему, для них по-прежнему нет ничего привлекательнее крылечка при условии, что прохожие понимают: и отель, и все в нем вам по карману и сидите вы здесь по доброй воле.
В этом году в Иерусалиме
Пер. Л. Беспалова
Израильский дневник, 31 марта 1962 года.
За окном благодать — солнце, синь; лондонское, насквозь отсыревшее небо и пронизывающую до костей мокрядь я оставил всего восемь часов назад, так что настроение у меня было лучше некуда. Пригородный автобус на Тель-Авив, «фольксваген», вел корпулентный еврей из Эфиопии.
— Ну и как вам Израиль, нравится? — с ходу спросил он.
— Я только что приехал, — ответил я.
Другой пассажир, зубатый американский паренек, сказал:
— Я здесь уже три дня. Завтра уезжаю. Вечером пойду на «Завтрак у Тиффани»[290].
— И вы ехали в такую даль, чтобы посмотреть кино? — спросил я.
— Хороший же фильм. И потом, у меня кругосветка.
По Алленби-роуд туда-сюда сновали парни и девушки в форме, ребята с приклеенными к уху транзисторами, продавцы лотерейных билетов,
юнцы в вязаных кипах, прикрепленных к волосам заколками. На углу Бен-Иегуды парень, привалясь к «эм-джи»[291], поплевывал маковыми зернышками. Иссохшие уличные торговцы, продавцы соков и бейглов, на мой взгляд, походили на арабов. На самом деле в большинстве своем они были выходцами из Северной Африки. Мимо меня, бренча браслетами, проследовали две американки в очках с затейливой оправой и пестрых юбках.
— Сэди, ты уже слышала, как они говорят?
— Нет.
— Хочешь верь, хочешь нет, а говорят они лучше нас. Ну прямо как англичане.
Ашкеназский ресторан, куда я зашел, был таким же, как все рестораны такого типа. Залитые вином льняные скатерти, зубочистки в рюмках, неизменный старик официант с кислой миной, вылезшим из брюк подолом рубахи, еле передвигающий ноги, набившие живот мужчины, рассеянно ковыряющие в зубах.
— Садитесь, — предложил мне кто-то.
Оказалось, мистер Берман — при перелете из Лондона он сидел прямо передо мной.
— Первый раз в Израиле?
— Да-да, — пылко откликнулся я.
— Все города, знаете ли, на одно лицо. Главная улица… отели, рестораны… И каждый так и норовит тебя надуть. Здешние, они надувалы из надувал. Я торгую спортивными товарами. Продаю ружья, спальные мешки, палатки. — Он хихикнул, обтер ложку о край скатерти и налег на клубнику в сметане. — Чтоб я провел ночь в спальном мешке — так нет. У людей мозги набекрень. И что — мне плохо?
Мистер Берман сообщил, что завтра уезжает в Токио.
— Девчонки в Токио — первый класс. Уродины все, как одна, но к этому можно привыкнуть. Привыкнуть? Да, а что? Они не знают, как тебя ублажить.
Билл Арад, мой израильский знакомец, повел меня в «Калифорнию», излюбленное кафе молодых журналистов и художников. Я сказал, что собираюсь разыскать Ури Авнери, редактора «А-Олам а-зе».
— Он — циник, — сказал Арад. — Умный, но безответственный. Из всего, что он будет вам рассказывать об Израиле, ничему не верьте.
Арад познакомил меня с другим журналистом. Шломо.
— А вы и вправду зоветесь Мордехаем в Канаде? — спросил Шломо так, словно это чуть ли не подвиг.
— Но меня так зовут, — сказал я, чувствуя себя идиотом.
— Правда? В Канаде? Вот это здорово!
На автобусной остановке я наткнулся на давешнего зубатого американского парнишку.
— Ну и как вам фильм? — спросил я.
— Сила. У меня, знаете ли, кругосветка.
— Вы мне уже сказали.
— Завтра в три часа дня уезжаю в Бомбей.
Ну и что идет в Бомбее? Но вопроса этого я ему не задал. Сказал только: «Развлекайтесь».
— Да я там только переночую.
До полуночи было еще далеко, и я решил гульнуть в Джет-клубе «Авиа-отеля». — он был открыт всю ночь. Тамошний бармен оказался художником и поклонником Ури Авнери.
— Правительство охотнее повесило бы Авнери, чем Эйхмана. Шимон Перес его не переносит.
Переса, в ту пору помощника министра обороны, Авнери задевал чаще других. Именно «А-Олам а-зе» («Этот мир») обнародовал, что португальцы воюют в Анголе пушками израильского производства. Бармена это удручало: теперь на Ближнем Востоке Израиль стали отождествлять с репрессивными колониальными режимами.
— Ури, — сказал он, — единственный из наших журналистов, у кого хватило духу ратовать за независимый Алжир. Остальные газеты стояли за за то, чтобы Франция Алжир не отпустила.
Бармен уверял меня, что Израиль держит культурного атташе в Стокгольме исключительно для того, чтобы он выхлопотал Агнону Нобелевскую премию.
— Бубер получил бы ее в прошлом году, — сказал он, — если б Хаммаршельд[292] — он его переводил — не погиб.
У каждой страны свои культурные проблемы. Возвратясь в номер, я прочел в «Геральд трибюн», что Чикаго обставил Монреаль в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли[293]. Микита забил четыре гола. Белево — ни одного.
Жарища стояла невыносимая. Я решил принять ванну, но, прочитав плакатик над раковиной, воздержался.
ПОМОГИ ОРОШАТЬ НЕГЕВ!
СБЕРЕГАЙ ВОДУ!
Общественный комитет за экономию воды
Я не мог заснуть — до того был взбудоражен: я в Израиле. Эрец-Исраэль. Туристический проспект «Путеводитель по Израилю» и тот был написан с характерной задушевностью: «Если вам, Боже упаси, понадобится врачебная помощь, вам ничего не стоит получить ее…» Всю мою жизнь я стремился в Израиль — и по той или иной причине поездка срывалась. В 1936-м — мне тогда шел шестой год — мой дед по материнской линии, хасидский раввин, купил участок земли в Святом Иерусалиме. По его замыслу вся наша семья должна была уехать в Израиль. Он умер, и мы не уехали. Еще в средней школе я вступил в «А-Боним», сионистское молодежное движение рабочего толка. По пятницам мы вечерами слушали пламенные речи о том, как восстановить плодородие почвы, смотрели фильмы, восхваляющие жизнь в кибуцах, отплясывали хору, пока у нас не начинали гудеть ноги. В субботу поутру мы обзванивали квартиру за квартирой, собирали деньги в «Еврейский национальный фонд», потрясали кружками перед выдернутыми из постели заспанными хозяевами, требовали — с полным сознанием своего права — жертвовать четвертаки, десятицентовики, пятицентовики, чтобы помочь возродить пустыню в Эрец. Наш хор пел душещипательные песни на посвященных сбору средств митингах. Летом мы отправлялись в кишащую комарами Лаврентийскую долину, где был наш лагерь, снова слушали речи, учили иврит и, за неимением арабов, следили — не появятся ли в окрестностях подозрительные франкоканадцы.
Когда в Израиле после 14 мая 1948 года, вслед за объявлением независимости, начались бои, я прибавил себе годы и вступил в Канадскую резервную армию, думая — вот это финт: пройти подготовку в канадской армии, чтобы воевать с англичанами в Эрец. Но в конце концов все же предпочел закончить среднюю школу.
Мое отношение к Израилю, если воплотить его в один образ, лучше всего передал бы кадр кинохроники, запечатлевший приезд Бен-Гуриона в Канаду. На нем этот жестоковыйный кряж из польских евреев обходит почетный караул Канадских гвардейских гренадеров. Гвардейцы стоят навытяжку, седые космы Бен-Гуриона едва доходят им до груди. Дорожу я этой фотографией из-за неимоверного удовлетворения, которое она мне доставляет.
На следующее утро мы поехали в Тель-Авив. Продвижение наше сильно замедляли запряженные осликами повозки, мотоциклы, везшие тележки, — они петляли по улицам, по обе стороны которых тянулись механические мастерские и свалки, где громоздились ржавые колеса и драные покрывала, очень бережно починенные. Жара стояла удушающая. Горожане в большинстве своем были одеты — как я счел, весьма разумно — крайне вольно. Все, только не хасиды, те держались за костюмы, более соответствующие их восточноевропейскому происхождению: штраймели, сюртуки и шерстяные кофты плотной вязки. Под сенью городской синагоги прохлаждались нищие. Тут же сидели калеки — один засучил брючину так, чтобы выставить протез напоказ, у другого было изуродовано лицо.