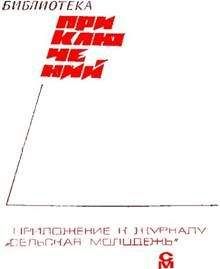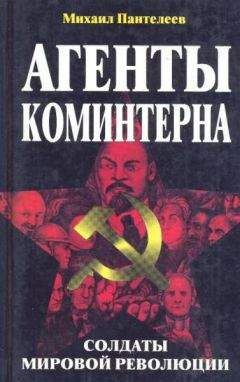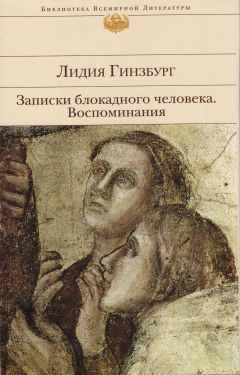Она и работала теперь проводницей общих вагонов.
Явилась в суд — чистенькая, остренькая, в белом воротничке, чем-то похожая на немку. Метнула острый взгляд на Псарева — и уже больше на него никакого внимания (что он ей!), и отвечала только суду.
— Что вам известно, чем занимался Псарев?
— Я не спрашивала его, и он не говорил. Потом только узнала.
— Что вы узнали?
— Что эта команда занимается истреблением мирных жителей.
— Выезжал Псарев на операции?
— Выезжал.
— А может быть, дома сидел?
— Нет, выезжал. Бывал на операциях.
— Сколько раз? Один? Два?
— Нет. Больше.
— Что же это были за операции?
— Не знаю. Кажется, против партизан. Возвращаясь домой, говорил, что ничего хорошего нет, много с нашей стороны погибло.
— Из вещей он вам привозил что-нибудь?
— Из вещей я всю дорогу от него ничего не имела…
— На вашей свадьбе кто-либо из немцев присутствовал?
— Я их не знала. Был один офицер и один с кухни, с ним невысокого роста женщина…
— Скажите, вам приходила когда-либо мысль о том, что вы неправильно поступаете, что служите во вражеской армии?
— Я об этом никогда не думала. Шла следом за ним, как с завязанными глазами…
— Что представлял собой Псарев как человек?
— К нему все товарищи были хорошего отношения. Он ни с кем не скандалил, с ним никто не скандалил…
— Был ли такой случай, что вы с Псаревым собирались бежать из зондеркоманды?
— Я этого не помню…
Псарев взмолился:
— Может, вспомнишь? На станции Джанкой мы с Андрюшенко хотели бежать…
Поморщилась, подумала с минуту и опять-таки, не глядя на Псарева, ответила суду:
— Какой-то разговор был. Но точно не помню…
По вызову суда из Мозыря приехала Екатерина Михайловна Титова. Во время войны она жила в деревне Кочище, в трех километрах от деревни Жуки. Навсегда ей запомнилась оккупация, вторжение в их деревню немецких солдат, грабежи, казни. Жителей стали вывозить — кого на расстрел, кого на фашистскую каторгу. Население покинуло деревню и ушло в леса; днем прятались в болотах, ночью выходили на сухое место.
За ними охотились. Каждую ночь немцы прочесывали леса. Тех, кого вылавливали, пригоняли в деревню Жуки. Там в колхозной конюшне расстреляли около семисот человек. Десять больших ям было забито трупами.
Екатерина Михайловна не знала тогда о существовании зондеркоманды СС 10-а. Она говорила — «фрицы, фашисты». Фашисты забрали ее отца и сестру.
Однажды ночью крестьяне увидели в лесу эсэсовцев. Старушка Бондажевич не могла бежать, она легла, родственники прикрыли ее хворостом, а сами спрятались в чаще. Когда они вернулись утром к этому месту, увидели, что старушку Бондажевич фашисты сожгли…
Председательствующий вызвал к микрофону Буглака:
— Ну, Буглак, правильно показывает свидетельница?
Буглак ответил:
— Эта операция была делом наших рук…
Екатерина Михайловна посмотрела на подсудимых: гады!..
Дарья Семеновна Енькова видела, как собирают в Ростове на сборный пункт евреев. Она жила на улице Энгельса, в доме 60.
— Приходили евреи туда с вещами, ценностями и ключами от своих квартир.
Она сказала:
— Соседи знают, что я еду свидетелем на процесс, они наказывали мне рассказать суду всю правду и просить, чтобы этим извергам не было никакой пощады…
Киреева Ульяна Тимофеевна жила в Ростове, в поселке 2-я Змиевка, возле Песчаного карьера.
9 августа немцы велели всем жителям уйти на один день из поселка. Ульяна Тимофеевна побоялась оставить свой дом без присмотра, из поселка не ушла — спряталась в Песчаном карьере, в яме.
10 августа она услышала над собой выстрелы: в яму с обрыва падали окровавленные тела, их сбрасывали оттуда, сверху. В ужасе Ульяна Тимофеевна поняла, что происходит расстрел и к ее ногам падают мертвые дети.
Председательствующий спросил Скрипкина:
— Это вы там стреляли?
Скрипкин встал:
— И я в том числе…
* * *
Прибыли еще свидетели, бывшие сослуживцы подсудимых. Одни приехали сами, отбыв «от звонка до звонка» десяти — пятнадцатилетние сроки, других привезли под конвоем из дальних колоний, и этот процесс был для них как бы отдыхом.
Сухаренко освободился всего месяц назад; он был с часами, в новом, только что купленном костюме, в новой рубахе-ковбойке. Отвечая, по привычке держал руки за спиной.
Барановский уже двадцать лет отбывал наказание (в свое время, учитывая его молодость и раскаяние, расстрел ему заменили двадцатью пятью годами). В синем кителе, стриженый, с обветренным широким лицом, он похож был на молодого солдата и бодро отвечал:
— А в нашей команде все были палачи, а уж Вейх, Псарев, Сургуладзе — в особенности…
Сургуладзе ненавидяще смотрел на него. Даже Вейх не выдержал, прокричал:
— Я стрелял, совершенно верно! Я не отказываюсь. Но вы сами что делали? Неужели один Вейх стрелял? Или вы мою фамилию стали называть после того, как она на пластинку попала? — Он жестом изобразил, как крутится пластинка. — Теперь скажите: были случ?и, что Вейх заставил выпустить скотину, возвратить ворованную корову? Знаете вы, что Вейх ни одной пуговицы себе не взял, ни одной тряпки с убитых не присвоил, все сдавал на склад?..
Барановский ухмыльнулся:
— Вы его слушайте больше. Известное дело — бандит, ищет себе оправдания. Никто грабежей не пресекал. И Вейх тащил что под руку попадет!..
Вейх только головой покачал: «О человеческая низость! О люди, люди!..»
…Ввели Пушкова, свидетеля по делу Сургуладзе, Буглака и Псарева, — с ними он прослужил до 1944 года, пока не перешел во власовскую армию, где стал офицером. Ему, также «с учетом молодости», расстрел был когда-то заменен двадцатью пятью годами, и он все еще отбывал срок…
— …Вам приходилось участвовать в операциях?
— Так точно. К концу службы в моей солдатской книжке значилось около сорока операций.
— В чем выражалась операция?
— Грабили, убивали, снимали с трупов одежду… Как правило, Вайх добивал раненых. Что касается Псарева, то необходимо отметить, что во время облав на партизан его нередко переодевали в советскую форму, из провокационных соображений снабжали советским оружием…
И с холодной четкостью заговорил о Сургуладзе, своем задушевном приятеле, с которым вместе ходил в атаку на партизанские пулеметы и два года подряд делил страх и надежду:
— Среди присутствующих здесь обвиняемых наиболее близким человеком к оберштурмбанфюреру Кристману был Сургуладзе. Его поощрил даже генерал СС Вальтер Биркамп, который часто приезжал к нам в Люблин. Я считаю своим долгом подчеркнуть, что из рук Биркампа Сургуладзе получил три бронзовые медали и одну серебряную — Bandenkampfab-zeichen. Вайх (он говорил на немецкий лад — Вайх) также был награжден…
И опять Вейх не выдержал, попросил слова.
— Я не отрицаюсь… Я не отказывался и не отказываюсь. Но у меня вопрос к свидетелю: за что вы были награждены?
Пушков вопросительно посмотрел на судью: отвечать? — и не совсем твердо сказал:
— Я был… за то, что, когда, находясь в окружении…
Вейх движением пальца отмел:
— Э, нет!..
Но все это не имело значения, так как судили сейчас не Пушкова, а Вейха. И Пушков это знал и поэтому был совершенно спокоен. Все они, эти свидетели, были спокойны и равнодушны не только к своим бывшим сослуживцам, но и к себе, к своим преступлениям, потому что знали, что формально повторной ответственности не подлежат и лично им ничто уже больше не угрожает. И, рассказывая об ужасных вещах, о чудовищных «эпизодах», никто из них не волновался и — за ненадобностью — не демонстрировал ни раскаяния, ни угрызений совести, ни сочувствия к жертвам.
В этом смысле подсудимые держались иначе. На них уже лежала тень неизбежности, которая все смягчает, на все накладывает свой отпечаток и любого заставляет задуматься над прожитой жизнью. Но стоило выпустить их из-за деревянного барьера, снять с них бремя ответственности, как они тут же выпрямились бы, отшвырнув от себя всю свою горечь и «трагедийность», и пошли бы дальше по жизни, никого не жалея и ни о ком не печалясь, потому что жалеть они умеют только себя и тогда только становятся похожими на людей, когда попадают за деревянный барьер, под «ярмо закона».