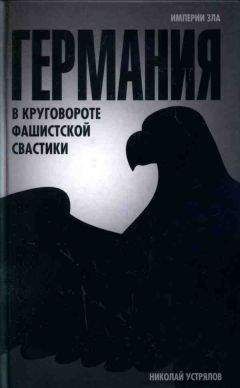эллинизма. Затем оно нашло в себе внутренние силы создать железную когорту верующих среди развалин распадающейся античности, среди эры войн и революций, и тем самым превратилось в основу нового мира, в кристалл порядка, родившего «принцип власти» новым народам. Оно сумело создать свою мистику жизни и смерти, свою философию мира, свою таблицу ценностей, свое искусство, свою поэзию, свою любовь. Оно нашло пути сначала к сердцу, а потом и к разуму человеческому, и покорило европейских варваров, сделав их наследниками античности и носителями нового культурного сознания. Оно владело средневековьем, создало готику, Августина, Данте, папскую теократию, священную империю. Оно превратило Европу в «страну святых чудес».
«Вера – великое дело: она дает жизнь. История великого народа становится богатой событиями, великой, возвышающей душу, как только народ уверует». Как часто приходится вспоминать это мудрое наблюдение Карлейля! Старый Гераклит не менее мудро называл веру «священной болезнью»: вот, в самом деле, болезнь, от которой опасно вылечиться!..
Новая Европа, конечно, всецело вышла из христианства. Это несомненно и в плане культуры, и в сфере социально-политической. Абсолютистский принцип власти, определивший собою новые государства (после Ренессанса), вел народы именем христианского Бога. И народы послушно шли, созидали державы, копили национальные богатства, умирали за короля, служили подножием избранных творцов культурных ценностей, блюли Богоустановленную иерархию. Покуда христианская религия крепко владела душами, процветала культура романо-германской Европы. Поскольку даже демократия земная чтила небесного монарха, органичность государства оставалась непоколебленной, свобода скреплялась сверхполитическими связями. Достаточно вспомнить великую английскую революцию и построенную ею державу.
Мало-помалу стали появляться признаки какого-то неблагополучия в «историческом христианстве», отождествляемом Чаадаевым с Европою. Признаки неблагополучия и словно надвигающейся исчерпанности. Уже Ренессанс выступает с поправками к ортодоксально христианской картине мира. Реформация раскалывает церковь, объявляет войну мистике и эстетике средневековья. Просвещение уже провозглашает изложение догматики. Кант продолжает дело просвещения. 19 век, «век науки», резко атакует самого Бога, затем и христианскую таблицу ценностей, заменяя ее эгоизмом себя возлюбившего человечества, себя превознесшего человека. «Европа теряет свое миросозерцание» – словно откликается на формулу Чаадаева современный немецкий писатель Куденхоф-Калерджи. И в блестящих, хотя и не всегда безукоризненных и подчас грубоватых, штрихах рисует постепенный декаданс христианского мирочувствия и миросозерцания на Западе. В народах, в массах. «В конечном счете христианство, умершее в Европе, превратилось в предмет вывоза для цветных народов, в орудие антихристианского империализма» (ср. его «Krise der Weltanschauung» в журнале «Die neue Rundschau», январь. 1924) [77].
Разумеется, это процесс чрезвычайно длительный, измеряемый десятками, даже сотнями лет. Но разве его анализом не нащупывается ключ к аналогиям историков и прозрениям романтиков? Проблема стоит того, чтобы над нею задуматься…
Есть какой-то надлом в самой сердцевине великой европейской культуры. Корень болезни – там, в ее душе. В душе человека, теряющего бесценный дар веры и стоящего перед необходимостью заменить веру рассудком, расчетом, самостоятельным решением. Его давит ответственность, мучит сомнение, томит одиночество. Он утрачивает душевное равновесие, плывет по морю житейскому без руля и без ветрил. Я говорю не о единицах, конечно, а о массах. Помните у Заратустры: «некогда мечтали они стать героями; теперь они сластолюбцы». Всякая власть перестает быть авторитетной. Так, христианство в свое время убило культ римского императора. «Кумиры» погружаются в «сумерки». Но вместе с кумирами погружается в сумерки и вся система культуры, с ними связанная. Ницше был во многом пророческим явлением.
На каком принципе построить власть? – вот проклятый вопрос современности.
На праве? Но право вряд ли способно быть венцом в иерархии ценностей. Принцип права – подчиненный, относительный принцип. Недаром он всегда безмолвствует в критические эпохи истории, когда «законность – убивает», когда «высшее право – высшая неправда». Отсюда и неизбежная шаткость «правового государства», поскольку оно лишено другого, более первичного фундамента, более действительного обоснования. Право благотворно тогда, когда оно служит проводником более высоких и более содержательных начал. Само по себе оно – форма, оно – формально.
На силе? Но сила опять-таки не может быть целью в себе. Сила выступает всегда во имя чего-либо. И олицетворяется вовсе не в крепких мускулах а в крепких нервах, крепкой душе. Голая сила, насилие есть бессилие, мыльный пузырь. «Gesetzlose Gewalt ist die furchtbarste» Scwache (Herder) [78]. За истинной силой всегда должна стоять творческая идея, способная объединять и воспламенять сердца.
Нужна идея. Но ее трагически недостает нынешним европейцам. Наиболее чуткие из них сами констатируют это. «Вот уже несколько десятилетий – пишет чуткий из чутких проф. Георг Зиммель, – как мы живем без всякой общей идеи, – пожалуй, вообще без идеи: есть много специальных идей, но нет идеи культуры, которая могла бы объединить всех людей, охватить все сферы жизни». Нет того, что было раньше и что постепенно утрачивалось, испарялось, «выветривалось». Предметы старой веры перестают вдохновлять, творить, повелевать. Люди Европы мечутся в исканиях, разбредаются в распаде. Великое прошлое давит их, они живут среди обломков христианской культуры и держатся еще только ими. Здесь их уцелело больше (Англия), там – меньше. Тут еще разбросаны островки старой догматики, там задерживается традиционная мораль, несмотря на крушение ее теоретического фундамента; кой-где сохраняются навыки старого послушания, обрывки прежнего культа, кусочки былого быта: огромна тысячелетняя инерция.
Но рано или поздно она истощится, это лишь вопрос времени. И к тому старому нет возврата: не течет обратно река времен, и не помогут модернизированные католики, не спасут и Конфуции в веленевых переплетах. Не вернуть прежней органичности, не воскресить уходящей культуры. Эстетам остается любоваться пейзажами заката:
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье!.. [79]
Пессимисты готовы служить панихиды за упокой человеческого рода. «Позитивизм, – писал В.В. Розанов, – философский мавзолей над умирающим человечеством» («Осенние листья»). Кризис Европы расширяют, таким образом, до краха всей нашей планеты, до биологического вырождения человеческой породы, или, по меньшей мере, до заката белой расы. Вспоминаются «Три разговора» Вл. Соловьева. Трудно здесь отличить субъективную фантазию от вещей интуиции. Будут преувеличения, будут ошибки. Есть, конечно, и обратное: «ничего особенного не случилось, по-прежнему весело вьется вперед гладенькая дорожка прогресса». Но, думается, верно одно: только какой-то новый грандиозный духовный импульс, какой-то новый религиозный прилив – принесет возрождение. Возможен ли он? Придет ли он? Каков он будет? Кто знает, кто скажет?.. Перечтите замечательные размышления проф. Виппера о «возврате к средневековью» [80]: они помогут вам ощутить всю иррациональность проблемы, осознать всю неразрешимость ее для современного поколения. Если бы вы спросили образованного римлянина упадочной эпохи, как возродить шатающееся общество, мог ли бы он вам ответить? Религиозные взлеты не