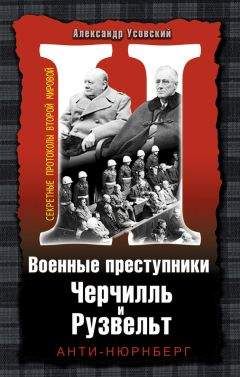— Сам я не видел, но все говорят, что это было в американской газете.
— Вас кто-то ловко разыграл.
И представьте себе, такое сообщение действительно было. Ярослав Галан — наш полиглот, знающий многие европейские языки, широко общающийся с местным населением, подтвердил нам:
— Да, слухов таких полно… И не только слухи.
Он показал нам номер наших знакомых «Звезд и полос» и в нем заметку, отчеркнутую синим карандашом. «Трагическое происшествие в суде. Советский Обвинитель генерал Руденко стреляет в Германа Геринга». В пресс-баре только и разговоров об этой заметке. Кто недоумевает, кто возмущается, кто хохочет. Мой друг Ральф, которого я спросил, как могла появиться в печати такая дикая чушь, только пожал плечами: «Сенсейшен. Все для сенсейшен». Пегги хохотала, показывая все свои белые голливудские зубы. Эрик бормотал: «Янки есть янки. Пора бы их знать». И привел смешную пословицу, существующую, оказывается, в Англии: «Бойтесь быка спереди, лошадь — сзади, американского корреспондента — со всех сторон».
Тем не менее задолго до начала заседания все были уже в зале. Все как обычно. Геринг сидел, как всегда, закутав ноги солдатским одеялом. Роман Андреевич Руденко занимал прокурорскую трибуну. Речь продолжала идти о плане «Барбаросса», и все-таки «сенсейшен» сегодня была. Да какая! Из-за нее по всем помещениям суда минут десять зуммерила сигнализация, передавая тройные гудки, собирая прессу, разошедшуюся по барам, курилкам, коридорам. Корреспонденты неслись на свои места, дожевывая на ходу сэндвичи, стирая с губ пивную пену.
Представляя обвинения по плану «Барбаросса», Главный советский Обвинитель зачитал и попросил суд приобщить к делу афидэвит, то есть письменное показание, фельдмаршала Фридриха Паулюса, бывшего заместителя начальника генерального штаба в дни, когда план «Барбаросса» разрабатывался, — человека, который, по его собственному признанию, принимал в этой разработке участие.
Чтение этих письменных показаний вызвало среди подсудимых необыкновенный ажиотаж. Они все время переговаривались, писали своим адвокатам записки. Те же перешептывались, вертелись на своих местах.
Мы понимали, в чем суть этого ажиотажа. Гитлеровское правительство в свое время скрыло от немцев сам факт пленения фельдмаршала Паулюса, первым из немецких высших офицеров сложившего свой маршальский жезл к ногам Советской Армии. Разгром немецких войск под Сталинградом, уничтожение и пленение трехсоттысячной группировки морально потрясло страну. Скрыть его было нельзя. Был объявлен трехдневный национальный траур, приспускались флаги, протяжно звонили колокола, в церквах шли траурные мессы. Народ известили, что командующий армией Паулюс погиб, как истинно германский солдат, сражаясь до последнего патрона. В честь его была устроена пышная панихида. Весь генералитет был на этой мессе, и Гитлер возложил высшую награду Германии на пустой гроб. Судя по всему, и некоторые из подсудимых не знали точно, что фельдмаршал сдался в плен. И вот на суде читают его показания.
Не успел Обвинитель попросить о приобщении документов к делу, как защитник Геринга — величественный, солидный доктор Штаммер в своей лиловой университетской мантии и маленький, тощенький, носатый доктор Зейдль, официально защищающий Гесса, но постоянно находящийся «на подхвате» у Штаммера, — оба разом бросились к трибуне и, перебивая друг друга, обратились к суду с ходатайством о том, чтобы письменные показания не приобщать, а вызвать на суд самого свидетеля Паулюса. Они мечтали: если Паулюса не будет, весьма существенные показания, сделанные от его имени, дискредитируются, а советское обвинение будет посрамлено. Если же Паулюс еще жив, то потребуется немало времени, чтобы доставить его в суд. И потом — одно дело давать письменные показания в Москве, а другое — тут, в Нюрнберге, на глазах своих бывших начальников и друзей.
Таков был, казалось бы, их беспроигрышный расчет. Поэтому, передав свое ходатайство, оба они — массивный толстяк и маленький, вертлявый человечек, — победно глянув в сторону советского обвинения, вернулись на свои места. Коллеги пожимали им руки.
Судьи перебросились между собой несколькими словами. Посовещавшись, лорд Лоренс обратился к Р. А. Руденко с вопросом:
— Как смотрит генерал на ходатайство защиты? Настала тишина. Все — обвиняемые и защитники со злорадством, судьи вопросительно, мы, корреспонденты, с любопытством — смотрели на Руденко.
— Советское обвинение не возражает, ваша честь, — ответил Руденко. Лицо его оставалось спокойно, но мы, советские корреспонденты, хорошо узнавшие за эти месяцы характер нашего Главного Обвинителя, уловили какую-то лукавинку в его взгляде. Вот в это-то мгновение по холлам, залам, коридорам, столовым и барам разнеслись тройные сигналы, возвещавшие большую сенсацию.
— Сколько же времени потребуется для доставки сюда вашего свидетеля, генерал? — спросил лорд Лоренс.
— Я думаю, минут пять; не больше, ваша честь, — неторопливо, подчеркнуто будничным голосом ответил Роман Андреевич. — Свидетель здесь, он сейчас в апартаментах советской делегации, тут, во Дворце юстиции.
То, что наступило в зале, можно сравнить разве что с финалом пьесы «Ревизор», с его немой сценой. Потом сразу все пришло в судорожное движение. Подсудимые заговорили между собой. От них к адвокатам полетели записки. Адвокаты, забыв свою солидность, затеяли сердитую дискуссию. Штаммер и Зейдль, подвернув подолы длинных мантий, ринулись к трибуне и снова дуэтом, перебивая друг друга, закричали в микрофон:
— Нет-нет, защита, все взвесив, на вызове свидетеля больше не настаивает. Она изучила афидэвит и вполне довольствуется письменными показаниями. К чему затягивать процесс?
Ложа печати являла собой другую гоголевскую сцену — из «Вия». Те, кто бежали из коридоров в ответ на сигналы, сулящие сенсацию, сшиблись в дверях с теми, кто уже спешил эту сенсацию отнести на телеграф, да так в дверях и застревали — ни туда ни сюда, В этом, всегда таком тихом зале стоял базарный шум.
— Суд вызывает свидетеля Фридриха Паулюса, — объявил, посовещавшись с коллегами, лорд Лоренс и по обычаю своему тихим домашним голосом добавил: — А сейчас, мне кажется, самое подходящее время для того, чтобы объявить перерыв.
Это, конечно, репортера не украшает, но, признаюсь, что и я не знал о том, что Паулюс здесь, и теперь вот невольно волновался, ожидая появления. Дело в том, что мне довелось просидеть в Сталинграде немало времени в дни этой нечеловечески трудной битвы. Видел я и ее победный финал. И разве когда-нибудь забудешь час, когда в тишине, такой необычной, даже страшноватой, среди этих закопченных руин, маленькая группа военных шла через пустынную площадь к зданию универмага, где должна была быть дописана последняя страница величайшего из сражений, когда-либо потрясавших земной шар. Странно было идти по улицам этого города и слышать, как под ногами вкусно похрустывал снег.
Мы знали, что штаб командующего Сталинградской группировкой находится в центре города: наша авиация и артиллерия с особым усердием обрабатывали эти места. Знали, что Паулюсу ни при каких обстоятельствах не удалось ускользнуть. Но, по многочисленным показаниям пленных, мы знали также, что Фридрих Паулюс храбр, тверд и упорен, что он не бросит своих солдат и не улетит самолетом из окружения, как это сделали некоторые из его генералов. Наши радисты перехватывали его переговоры с генштабом, и мы были уже знакомы с обоими приказами Гитлера, требовавшего сражаться до конца, не жалея людей. Перехвачен был и еще один приказ, согласно которому генерал Паулюс получил фельдмаршальский жезл и высшую награду Германии.
Теперь было известно, что он вместе с оперативной группой штаба в подвале, под почти полностью разрушенным зданием универмага. Есть приказ взять их живыми. Сдастся он в плен или нет? Что в нем возобладает — холодный разум или эмоции? Что там говорить, наши военные как-то невольно уважают этого человека, державшегося до последнего и в трагическом финале не оставившего своих солдат…
Ну вот и бесформенные руины универмага, из которых торчит лишь угол выгоревшей стены. Дверь, ведущая со двора в подвал, куда тянутся провода. Кругом все расчищено и подметено. Эта расчищенная площадка странно выглядит среди гор битого кирпича. Наш офицер, которому предстоит передать ультиматум о сдаче, медленно, будто сапоги его приклеиваются к ступенькам и их приходится с трудом отдирать, спускается в подвал. Легко представить, что он при этом переживает. Ведь это же все равно, что безоружным ползти в логово тигра, да еще раненого тигра. Особенно запоминается лицо этого офицера — бледное, вспотевшее, несмотря на острый февральский ветер. Все напряжены. Солдаты нетерпеливо переступают с ноги на ногу, держа автоматы наготове. Ведь черт его знает, что могут выкинуть штабисты Паулюса в эти последние мгновения.