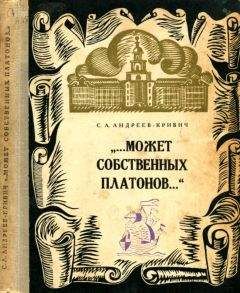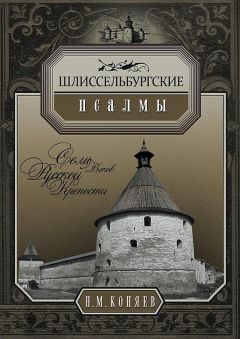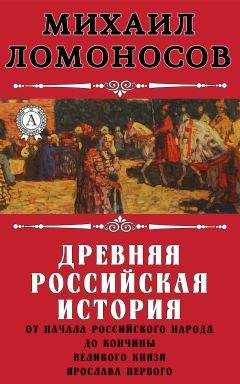- Товарищ командир, - сказал он степенно, - ради бога, не пишите! Ну, доложите по начальству, ну, на губу посадят[?] Дело армейское. Не привыкать[?] У Бондаренки отца нет. Мать, сёстры без понятия - расстроятся, плакать будут[?] Ну, соседи вдруг узнают - одних разговоров[?]
- Успокойтесь, - сказал я, - не буду писать, а начальству доложу, как положено. ЧП всё-таки. Небольшое, но ЧП.
Все успокоились. Слова мои были приняты как извинение командира ещё неопытного.
Через несколько месяцев мне поручили исполнять обязанности командира радиороты. То ли промашки мои остались незамеченными, то ли внушили уважение законченные десять классов школы, добровольное вступление в армейские ряды в сорок четвёртом году, ранение в сорок пятом, владение английским, что поразило тогда сослуживцев, да ещё диплом училища, рост, выправка[?]
В моём подчинении оказались даже капитан и старший лейтенант - командиры взводов. Было им уже лет по тридцать. Почти всю войну прошли эти замечательные люди, только образование у них было шесть-семь классов да краткосрочные офицерские курсы.
В ту пору ещё существовало единоначалие, заведённое в войну после отмены всяких комиссаров. Командир - всему голова, без всякого прекословия.
Вот забавный пример.
Висело у нас рядом с дверью в солдатскую столовку рисованное обмакнутой в чернила кисточкой объявление: такого-то числа в такое-то время состоится партийное собрание коммунистов радиороты о планах на такой-то срок, докладчик - и.о. командира роты, ваш покорный слуга.
А я коммунистом не был. Единоначалие - ничего не попишешь. И я старался[?]
С офицерами я сдружился. Они часто собирались у меня, поскольку удалось снять просторную комнату неподалёку от части. В разговорах мелькало имя командующего округом, произносившееся с благоговением и опаской. Рассказывали, как при нём приструнили воровскую Одессу, про его строгое обращение с подчинёнными военачальниками, об их страхе перед ним, перед его манерой срывать погоны с провинившихся. Кто-то будто бы сам видел, как некий полковник, узнав о появлении маршала в расположении части и чувствуя за собой какую-то вину, спрятался, залез под койку, чтобы не попасть ему на глаза. Мы осуждающе захихикали, потому что нам было ещё долго служить до полковничьих погон. Кто-то с чужих слов рассказывал о крутом нраве Жукова ещё на войне.
С памятью маршала Жукова и поныне творится нечто похожее на кривую биржевых сводок. То его боготворят, то обвиняют едва ли не в половине потерь Советской армии. Будто бы он равнодушно относился к смертям своих подчинённых, не жалел серой солдатской скотинки ради победных реляций.
Мне же тогда довелось рассказать друзьям-офицерам, как я, незадолго до вечера с разговорами о Жукове, получил возможность увидеть маршала в ином свете. Увидеть, но не услышать его встречу с солдатом.
А было дело так.
На осенних манёврах, проходивших севернее Одессы, сбросили на парашютах десант - несколько батальонов 34-й стрелковой дивизии. Окружить и "уничтожить" его командующий округом приказал силами нашего 82-го стрелкового корпуса. Мне же командование поручило подобрать надёжного радиста и радиостанцию, которые бы вместе с другими средствами связи сопровождали маршала на манёврах.
А моя рота незадолго до этого получила американские радиостанции, доставленные в Россию по ленд-лизу и задержавшиеся на армейском складе с военного времени. Они были в отличном состоянии и смонтированы в крытых кузовах с небольшими окошками на мощном "студебеккере" и додже "три четверти". Чего только там не было из техники, но по описи на английском я обнаружил, что портативные пишущие машинки и ещё кое-что из пригодного для быта исчезли. Я доложил об этом начальнику штаба, а он только рукой махнул - то ли американские кладовщики упёрли, то ли наши.
Решено было послать на манёвры к Жукову додж с широкими колёсами, укороченный, манёвренный. С коротковолновой радиостанцией. На нём уже освоился радист первого класса, опытный, матёрый, и его команда - сменщик и водитель.
Обо мне речи не шло, но увидеть маршала хотелось страсть как. И я сказал начальнику штаба, что поеду в будке на всякий случай, хотя у меня было удостоверение радиста лишь третьего класса. Подполковник взглянул мне в глаза и всё понял.
- Ладно, - сказал он, - поезжайте. Только не высовывайтесь, чтобы на глаза ему не попасться. И вообще[?] за всё в ответе будете!
Была осень. Хлеба убраны. Манёвры шли своим чередом. Мощная трофейная легковая машина маршала легко одолевала и целину и пахоту. А мы с другими мчались следом, останавливаясь у скоплений штабных вагончиков, где вытягивались, что-то докладывая, генералы и полковники. В окошко видно было лишь, как шевелятся губы. Я не высовывался из будки, где радисты, работая ключами и записывая радиограммы, уверяли меня между делом, что чёрный "мерседес" маршала с ярко блестевшими трубами, обхватывавшими длиннющий капот, принадлежал некогда самому Герингу.
В окошке впереди слева показалась одинокая полевая кухня. Этакий котёл на колёсах с солдатиком-кашеваром на облучке и пегой лошадёнкой в упряжке.
Машина маршала резко повернула к кухне и остановилась. Солдатик встал, а Жуков вышел из машины и сделал рукой жест, который на русский язык можно было бы перевести так: открой, братец, котёл и дай попробовать, что ты там наварил.
Кашевар трясущимися от волнения руками стал откручивать винты котла, чтобы поднять крышку. Руки скользили. Видимо, в масле были. И не удержал крышку, откидывавшуюся пружинами.
К ужасу солдатика, а в хозвзводах они не самые бравые, каша, прилипшая к внутренней стороне крышки, оторвалась, взлетела в воздух и шмякнулась маршалу на грудь.
И что за этим последовало?
А ничего.
Жуков молча поднял руку, оборотив её ладонью к солдатику, как бы успокаивая его, тотчас сел в машину и укатил в Одессу, а всем сопровождавшим было приказано ждать его в таком-то пункте. Через час маршал уже снова был на манёврах в свежем кителе.
Сцена эта осталась в моей памяти навсегда. И я уверен, что ни Жуков, ни один начальник не сказал солдатику ни единого недоброго слова[?]
В середине декабря 1947 года сидели мы с офицерами батальона у меня вечером, когда по радио объявили о завтрашней денежной реформе. За десять рублей будут давать один новый рубль.
- А сколько у нас осталось рублей? - спросил кто-то, и мы вывернули карманы.
Четверо нас наскребли тысячи две.
- Пропали денежки, - заметил другой. - Магазины небось уже закрыты[?]
- Стоп! - сказал третий. - Я знаю, что делать.
- Что! - крикнули все.
- Пойду к своей Любке. Я её в Дом офицеров звал на танцы, а она сказала, что почему-то задержится.
Хорошенькую Любу знали все. Она заведовала винным магазином.
- Бывают же такие счастливчики, - ехидно заметил кто-то.
- И, наверно, не один, - добавил другой.
- Но это кому - таторы, а кому - ляторы, - подвёл философскую черту третий офицер-связист.
Любкин ухажёр вернулся через час с двумя картонными коробками, в которых были бутылки с портвейном и кое-чем покрепче. Началась дружеская попойка, предварившая поход на танцы в офицерский клуб. Всё бы ничего, но судьба порой выделывает неожиданные кульбиты.
Поднабрались мы крепко. Особенно, как самый незакалённый, я.
Туманно помню, что танцевал. Не уступил даму кому-то, кто её, как говорят теперь, ужинал. Предложили мне выйти наружу - поговорить. Там ко мне подступили обиженный и ещё двое. Началась драка[?]
Исход её обнаружился, когда я пришёл в себя. Примерно через час. Уже дома. Физиономия у меня распухла и к утру стала чёрно-лиловой. Было больно и стыдно, но по молодости я тешил себя тем, что и сам не остался в долгу - разбил кулаки в кровь.
И всё бы ничего, если бы не терзавшая меня тревога[?]
За неделю до столь постыдного происшествия моему подразделению приказали произвести испытание тогдашней новинки - работу телетайпов по радио на различных расстояниях. Ехать надо было в Одессу товарняком, а дальше своим ходом. Я всё подготовил, перегнал технику с радистами на товарный двор, и наутро после злополучной ночи мы все должны были тронуться в путь.
К начальству идти не надо, но как я буду смотреть в глаза своим подчинённым заплывшими глазками, что они обо мне подумают?!