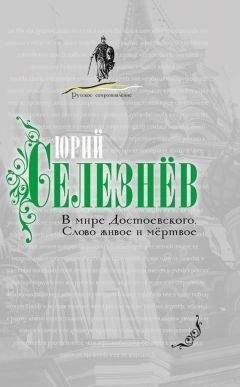«Нам, писателям, нужно опять к народу, надо опять подслушивать его стоны, – утверждал в свое время Пришвин, – собирать кровь и слезы и новые души, взращенные его страданием, нужно поднять все прошлое в новом свете». Не о том ли пророчествовали все русские писатели от Пушкина до Достоевского, от Л. Толстого до Шолохова? Вот из этих-то народных глубин, самосознания русской литературы черпают критерии истинности и большие писатели, наши современники. Отсюда и афористическая «формула»-вывод Бондарева-публициста: «…перестал учиться у классиков – перестал писать…» Отсюда и постоянная необходимость обращения к тому, что мы почему-то до сих пор еще называем «наследием прошлого», как будто Пушкин, Достоевский, Чехов – это прошлое, а не вечно живое настоящее, обращения многих, если не всех, наших писателей, подлинно тяготеющих в своем творчестве к общенародным, государственным проблемам.
Вы скажете: нужно ли быть писателем, чтобы повторять старые истины, известные сегодня и школьнику? Старые-то они, конечно, старые, да только повторять их приходится, и при этом, как видим, не только критикам, но и писателям-художникам, писателям гражданским, тем, чье творчество пытается проникнуть в глубинную суть народного характера, в то, что Л. Толстой называл «теплотой патриотизма».
Литература, если это истинная литература, как мы уже говорили, – всегда результат и показатель творческих, духовных возможностей целого народа. И в этом смысле даже и в сугубо личностных лирических стихах подлинный поэт всегда отражает общенародное состояние и даже состояние мира в целом, ибо поэту дано видеть «глазами своего народа» и, следственно, – быть его «устами». В лирическом «я» большого поэта всегда бьется пульс эпохи.
Задача критики – и по биению этого пульса определить состояние эпохи, мира. Но критика критике – рознь. Одни признают за поэтом право быть выразителем идей, мыслей народа, общества; другие полагают, что за лирическим «я» нет и не может быть ничего более существенного, чем сугубо личное самоощущение. Для одних поэзия – общенародная ценность, для других – частное дело пишущего стихи.
Но если в отношении к поэзии, тем более к лирической, различие оснований критических оценок тех и других не всегда проявляется наглядно, а потому и воспринимается порою читателем как частный, вполне вкусовой спор, то в оценках произведений прозы истоки разных критических позиций, мироотношенческие основания их критериев становятся куда более ощутимыми.
Приведу лишь один пример, во многом, на мой взгляд, отражающий не личную, но достаточно распространенную сегодня критическую позицию.
Обратившись к одному из значительных произведений современной литературы – к повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой», этой подлинно «народной драме», народной еще и потому, что писатель сумел увидеть обыденный факт «глазами народа», и высоко оценив повесть в целом, критика признала за ней сложность и напряженность ее идейно-художественного мира, но тут же попыталась убедить нас в следующем: «Напрасно было бы искать в повести реалистические и психологические объяснения такого напряженного и сложного внутреннего мира, какой несет в себе старуха Дарья. Он, этот мир, спроецирован Распутиным из своего сердца».
У Распутина, ладно, можно признать разные там сложности и напряженности – все-таки писатель, интеллигент… Но у старухи Дарьи-то откуда этому взяться? Такое уже выше иного критического понимания.
Да, образ Дарьи, выражающий в повести народное сознание, действительно «спроецирован Распутиным из своего сердца». Но как он там, в этом сердце, сложился? Откуда взялся?
Более ста лет назад, отвечая на подобного же рода обвинения в «идеализации» народа, Достоевский писал: «Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны… так, может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор? Неужели же не вздор? А что если и в самом деле не вздор?» Пушкину, мы знаем, было чему учиться у неграмотной женщины, Достоевскому – у мужика Марея, Толстому – у деревенского паренька Федьки… Нынешние теоретики настолько сами по себе – мудрецы, что и мысли не допускают о самой возможности научиться чему-нибудь у современной Дарьи. Дело ведь в данном случае не в конкретной старухе, а в той правде народного образа (кстати, вполне четко психологически выраженного в повести), о которой напоминает нам и Пришвин: «С детства мы говорим «народ», как что-то священное. Только теперь начинаю понимать, что… это не только мужики или рабочие, и даже не только русские люди, как Пушкин, Достоевский, Толстой, а общий всему человеку на земле огонь, свидетельствующий о человеке, продолжающем начатое без него творчество мира. Только чувствуя и зная в себе самом этот огонь, можно теперь жить и надеяться».
Вот в таких-то духовно-нравственных ценностях, коренящихся в общенародном сознании, лежащих в основе истинного «творчества мира», и находит автор «Матеры», как, впрочем, и любой большой писатель, видящий мир глазами своего народа, те вечные, непреходящие завоевания человека в опыте его исторического, духовного бытия, на которых мир стоит.
И напрасны попытки убедить нас в том, что у Дарьи «будущего… нет, как и у Матеры» и что в этом-де единственная «невыразимая правда» народного образа и всей повести В. Распутина. Понять правду народного характера, осознать бессмертие оснований творчества мира – значит и самому прочно стать на те основания, на которых зиждется тот самый закон, согласно которому, хоть капля дегтя и портит бочку меда, все же в конце концов добро всегда превозмогает зло. Но этого отдельные наши мудрецы от критики понять никак не могут, а вероятно – и не хотят. Потому что очень уж обидно вознесшим себя па недосягаемый для народного духа интеллектуальный пьедестал признать за какой-то там теткой Дарьей, Ариной ли Родионовной, мужиком ли Мареем какую-либо духовную мудрость, перед которой их собственные мудрствования насчет «будущего» этих «теток» и «мужиков» не более чем капля дегтя. Неприятная, портящая «бочку», но в конце концов – бессильная перед законом мирового творчества добра.
Таковым всегда было и остается и вполне осознанное чувство писателей, чье творчество является ярким проявлением того же закона. «Думаю, – пишет в одной из своих критико-публицистических статей Ю. Бондарев, – что это чувство по извечной силе своей равно чувству материнского или отцовского инстинкта любви, то есть тому великому чувству, без которого человек не имеет права называться человеком».
Стране, народу и их ведущим писателям, нашим с вами современникам, нужно было духовно подняться до этих простых, вечных, хотя и не раз объявлявшихся устарелыми, обветшалыми, истин; пройдя опыт Великой Отечественной войны, взять на себя ответственность перед будущим за это право говорить выстраданные истины так, чтобы они действительно стали кровью и плотью сознания именно каждого школьника. И если это случилось, если эти истины вошли в самую сердцевину сознания современного человека, здесь огромная историческая заслуга той нашей литературы, которая осознавала свои новые задачи и свою новую ответственность, осмысливая исторический опыт народа, для многих ведущих сегодня писателей – прежде всего опыт Великой Отечественной войны, ее уроков, и прежде всего – духовно-нравственных.
О чем бы ни писали сегодня, например, Юрий Бондарев или Виктор Астафьев, их память возвращается к этому прошлому, одному из истоков, формирующих современное сознание общества.
Да, вот уж и «война стала историей, – размышляет Ю. Бондарев. – Но так ли это? Для меня, – говорит он, – ясно одно: главные участники истории – это Люди и Время… Быть историчным – это быть современным. В нашей крови пульсируют токи тех людей, что жили в Истории». Кажется, тоже – не столь уж и новые истины? Но для многих писателей-фронтовиков такие истины – не отвлеченные понятия, почерпнутые из умных книг, но выстраданные в самый суровый и самый смертный для жизни страны и народа период нашей истории. А когда слово подтверждено судьбой, оно обретает особую силу убежденности и убедительности.
«Будущий историк прикоснется к документам этой священной войны… и будет потрясен тем, что потрясает нас и сейчас…» Судьба писателя – это тоже лишь эхо судьбы его народа. Нашему народу дано было в этих всемирно-исторических потрясениях осознать уже и сейчас то, что, возможно, откроют для себя будущие поколения. Может быть, именно в этом сегодняшнем сознании будущего заключены и пророческие возможности и заветы нашей литературы? «Писатель теперь засыпан материалами, – писал еще Пришвин, – и не собирать ему надо под материалами, а сохранять под их тяжестью живую душу», тот духовно-нравственный центр художественного творчества, без которого литература из «вождя» и «пророка» легко скатывается на позиции «по ту сторону», в нравственный релятивизм, в потребительскую бездуховность.