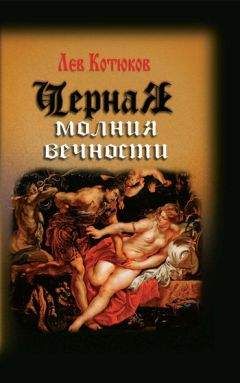Гитлер был далеко не робким человеком. Еще с ранних лет он привык воспринимать смерть как составную часть жизни. Смерть в равной степени как принадлежала людям, так и обладала ими. Можно было запросто преодолеть страх, четко уравновесив силой воли эти противоположные понятия. Гитлер хладнокровно презирал чужой и собственный страх. И лишь благодаря родовому, но развитому дару презрения он не сгинул в годы скитаний в трущобных притонах Вены, не обратился в неопознанный труп, в безымянное, кладбищенское ничто.
Но жутко было сегодня на сердце. Не от ожившего сна, а от безумия, порождаемого подобными видениями. Безумия он страшился сильней одиночества – и о возможности собственного безумия старался не думать никогда.
Гитлер перевел дух, с деланным равнодушием обозрел уличную пустоту, как родному, порадовался случайному толстобрюхому обывателю, значительно прошествовавшему мимо. Толстяк, благоухая табаком и пивом, необременительно пронес свою жизнестойкую полноту и скрылся за углом.
Гитлер затылком чувствовал завитринный, настойчивый зов Пречше. Он знал, что книготорговец обхаживает его неспроста, хотя его личное благорасположение не вызывало сомнений. За Пречше стоял Гвидо фон Лист. Он возглавлял тайное общество «Арманен» и был вхож в самые высшие круги венского общества. Гвидо считался избранным из избранных: пытался достичь высших уровней сознания с помощью наркотиков, успешно проводил сеансы черной магии и гипноза и как-то, как бы между прочим, намекнул Гитлеру, что у него есть все данные, чтобы стать истинным посвященным.
Безусловного внимания заслуживали попытки фон Листа расшифровать древнегерманское руническое письмо, хранящее тайну происхождения и предназначения ариев. По первости Гитлер с жадностью неофита заинтересовался работами Гвидо, но вскорости охладел к его изысканиям, ибо они вели к порабощению человеческой души потусторонними силами. Откровенное презрение вызвала неудавшаяся попытка фон Листа ритуально материализовать «инкуба» и лунное существо. Гитлер упорно пытался обрести собственное постижение сверхчувственных миров без покорения потустороннего и без подчинения своей воли иносущностям. И это вызывало явное беспокойство у фон Листа и Пречше – и, как он догадывался, не только у них, а и у тех, кто обитал в закулисье оккультного венского театра. И чем дальше он отдалялся от лжедуховидцев, тем сильней ощущал внимание неведомых сил. Он знал, что ему отпущено определенное время на образумление, несколько месяцев, после истечения коих он должен получить посвящение или скрючиться последней судорогой с проломленной головой в каменной городской ночи.
Нужно было во что бы то ни стало выиграть время и дожить до кровавого рассвета Великой войны. Его венское время истекало тридцатого апреля. Он уже решил покинуть город, но колебался: а вдруг война опередит его смертельный срок.
Гитлер бесцельно пересчитал открытки: четырнадцать штук. И вдруг в сознании огненной прописью вспыхнуло: «1914 год!.. Август!..». Он мгновенно понял: провидение подсказывает ему дату грядущей битвы народов. Сложил карточным веером злосчастные открытки и загадал: «… если продам хоть одну – иду навстречу Судьбе и остаюсь в Вене, если ничего не продам – уеду!.. В Берлин, в Нюрнберг, в Мюнхен, в конце концов!..»
Будто внимая его тайным мыслям и загадам, резко зазвенел колокольчик в шляпном магазине. Гитлер исподлобья посмотрел перед собой и увидел усатого резколицего незнакомца, выходящего со спутниками наружу. То не оживший кошмар, не смутный ночлежный сон, не больной галлюциноз являла жизнь, а обыденную торговую реальность. Усатый был одет в короткое черное пальто, на голове его был необычный меховой треух, правой рукой он бережно прижимал к боку белую шляпную коробку, перевязанную широкой розовой лентой. Он поправил сбившуюся шапку, с прищуром, как из морской дали, посмотрел в сторону Гитлера и что-то сказал своим товарищам.
Гитлер оцепенело смотрел на приближающихся людей и не чувствовал их взглядов. Мерещилось: они пройдут сквозь него, сквозь свои зыбкие отражения в витрине, сквозь книжные стеллажи Пречше, сквозь каменные стены, а ему ничего не останется, как обречённо ринуться за ними и проследовать в никуда, а может быть, еще дальше.
Он, задержав дыхание, как бы направил свой взгляд вовнутрь себя, сверхусилием отрешился от своей сущности, выпал из сознания, – и, вздохнув во всю мощь легких, вновь обрел себя, выдохнул душную оторопь и четкая явь пришла на смену призрачной небыли.
«…Албанец! Или нет, наверное, ассириец… – подумал Гитлер об усатом и небрежно оценил его спутников: – Этот, вертлявый, в шляпе, должно быть, француз… А этот, в пенсне, с профессорами академии схожий, вне сомнений – еврей… Ишь как брезгливо губы поджимает… Но главный – ассириец… Эти при нем… И зря еврей думает обратное…»
Глава шестая
Усатый что-то глухо спросил у «француза» и показал на открытки. Тот снисходительно пожал плечами, усмехнулся и захлебисто затараторил, в чем-то заботливо разубеждая усатого.
Гитлер, как во сне, без перевода понял: «француз» отговаривает усача от покупки. Незнакомый говор напоминал чешский. В последнее время Вена просто кишела гнусными чехами. Но Гитлер чутко уловил: нет, не по-чешски говорят и не по-польски… «На болгарском, что ли?.. Или на русском?..» Еврей, не снимая черных кожаных перчаток, взял открытку, безразлично повертел перед собой, ни слова не говоря, положил обратно. Как по пустому месту скользнул глазами по небритой физиономии продавца – и черными квадратами на миг застлались стекла его пенсне, глубоко вдавленного в хрящеватое переносье. «Француз» с жаром продолжал что-то толковать, и слух Гитлера резануло: «… персонаж Достоевского…».
Без сомнения, эти слова относились к нему, он с откровенной неприязнью посмотрел на покупателей. Усатый перехватил его взгляд и толкнул локтем француза. Тот неожиданно перешел на немецкий и спросил:
– Сколько стоят?
– Десять! – с вызовом ответил Гитлер.
– Десять геллеров штука? – уточнил «француз».
– Десять крон за штуку! Оптом отдам все за 120!
– Но почему так дорого?.. За эту вот мазню с ангелочками?.. – изумился «француз».
– Отдам за 120 крон все оптом!.. – срывая голос, яростно выкрикнул Гитлер.
– Не надо, не надо… Спасибо!.. – замахал руками «француз». И самодовольно, как бы в подтверждение какой-то очень правильной мысли, кивнув на Гитлера, что-то забалабонил своим товарищам.
И опять чужеродная словесная невнятица кольнула слух фамилией Достоевский.
Усатый в знак согласия кивнул «французу», но как-то неохотно, угрюмо, будто устал, соскучился соглашаться – и скоро окончательно соскучится.
«О, Господи, когда они от меня отстанут!.. – с ненавистью подумал Гитлер. – Когда эта проклятая явь исчезнет?!.. Бесовская, сновидческая явь! Когда, наконец, придет мой час? Когда я сам буду творить явь и уничтожать сны?!»
И вечная жизнь отозвалась материнским голосом: «Мой Ади! Мой любимый, несчастный Ади! Кто позаботится о тебе?! О Ади, как страшно за тебя!..»
Ему вдруг показалось, что незнакомцы слышат голос матери. Он стиснул в карманах кулаки, почти готовый броситься в драку. Они не имели права слышать ведомое лишь ему одному. Но, однако, несостоявшиеся покупатели уже удалялись. «Француз» стал что-то громко выговаривать еврею, а усатый старательно придерживал шаг, дабы отделиться от спорящих. Приотстал и неожиданно оглянулся. Его усталое небритое лицо словно выросло в размерах. Он улыбнулся, но без снисхождения, без пустой жалости, с сожалением: «Я б купил, да вот помешали…» Гитлер растерянно встретил его взгляд – и против воли согласным кивком отозвался на усталую, понимающую улыбку. Но в тот миг неугомонный «француз» окликнул усатого – и тот не увидел ответного кивка бродяги-торговца.
Внутренние человеческие вибрации на мгновение совпали – и тотчас разъединились, чтобы уже не совпасть никогда.
К полудню погода окончательно испортилась. Снежная морось обложила дома и улицы, назойливо летела в лицо, и напрасно Гитлер пытался укрыть от ветровой метели свой неходовой товар полами пальто. И открытки намокли, и пальто отяжелело от холодной сыри.
Пришлось подобру-поздорову сворачивать бесприбыльную торговлю и идти пить кофе к Пречше.
Он выпил аж три чашки, с жадностью съел две булки с марципаном, с деланным вниманием пустоглазо соглашаясь с проникновенными рассуждениями покровителя о роли избранных в истории, – и даже не стал оспаривать неверную трактовку одного высказывания Ницше.
Как правило, патриоты бедны. Но стоит им малость улучшить свое жизнеобитание, а иной раз совсем улучшить, то они как бы рассеиваются – и, увы, без прежнего злого жара отстаивают свои твердые, но призрачные убеждения.
Забегая вперед, следует отметить: в конце зимы и в первые весенние месяцы художественно-коммерческие дела Гитлера чудесным образом пошли на подъем. И не надо было ждать цветения майской сирени для утешения обездоленности, не надо было лишний раз пересчитывать кроны и геллеры на ночь глядя. Можно было спокойно ложиться спать, не обременяя сознание крохоборной арифметикой. Отпала обязательная дележка с подлюгой Ганишем. Работы Гитлера, как по приказу, без посредников брали евреи-оптовики. Он был буквально завален заказами перед еврейской и католической Пасхой. И даже ревнивый, вредоносный галантерейщик, как бы случайно встретясь, изъявил желание заказать ему несколько видовых акварелей Вены, но получил презрительный отказ.