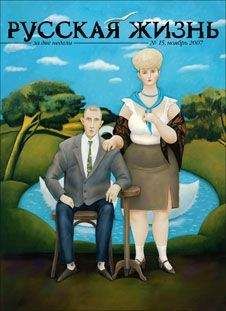Это русификация Магдалины, перевод ее на язык родных осин. В таком случае Живаго, вкупе с Антиповым и Комаровским, оказываются неким коллективным Нехлюдовым, а если иметь в виду автора «Воскресения» и романный замах Пастернака, то и Львом Толстым. Именно с ним идентифицируется автор «Доктора Живаго». Роман Пастернака вызывает отзвуки всех толстовских: это и (понятное уже из сказанного) «Воскресение», и «Анна Каренина» с той «женской опрометчивостью» героини, которой наделена Лара Антипова, и, само собой разумеется, «Война и мир» с партизанами в лесу и дубиной народной войны в руках Памфила Палых.
Герой романа - христоподобная фигура, но в Юрии Живаго виден и сам автор. Подобное отождествление было для Пастернака формой самооценки художника - признание собственного гения, но и готовность нести этот крест, взойти на Голгофу, каковой Голгофой было в то время само написание книги, не скрывающей отношения автора к событиям недавней русской истории. Это очень высокое задание, и об этом много писали в связи с «Живаго», но все-таки этим нельзя подменить решения чисто художественных задач, потребных для написания романа, а эти задачи и решения были вне средств поэтики Пастернака.
Но есть в романе еще одна самоидентификация автора. Лев Толстой - отнюдь не только источник его тем, но и что-то вроде соавтора «Живаго». Такова разгадка таинственного Евграфа, богом из машины возникающего на всех путях героя. Ев-граф - граф: граф Толстой. Толстой - талисман пастернаковского романа, его «маскот». Было ли это игрой подсознания у самого Пастернака или сознательным его приемом, роли не играет.
Таков был идеальный замысел «Доктора Живаго», самый приступ, самое касание к которому наполняло Пастернака не знаемой ранее радостью. В состоянии райской эйфории он приобщался глубинам и высотам русской веры, культуры и судьбы - сам становился Россией; и исчезала, в ничто вменялась ненужная и мешающая «случайность происхождения».
В этом состоянии, в этом, лучше сказать, восхождении, Пастернак не заметил, как вышел за грани эстетического. О необходимом - по Вячеславу Иванову - нисхождении к художественному воплощению замысла он уже не думал. Это художественное чутье он утратил, увлеченный и опьяненный осуществлением своей сверх-задачи. «Доктор Живаго» был для Пастернака не художественной задачей, исполнение которой оценивается по эстетическим критериям, но персональным достижением, личным подвигом, самопреодолением, трансфигурацией, преображением. Это был религиозный, а не художественный опыт, экзистенциальный прорыв.
Способны ли подобные переживания, такой опыт быть заразительными? Вполне возможно. «Доктор Живаго» должен нравиться конвертированным евреям. Но, отвлекаясь от этого гипотетического случая, нельзя, да и невозможно отказаться от эстетических критериев при оценке «Живаго».
Есть в русской литературе параллельный Пастернаку пример большого художника еврейского происхождения. Имею в виду Бабеля, у которого, кстати, в «Конармии» эскадронную даму величают так же, как пастернаковскую в красный угол поставленную проститутку, - Сашкой. Один из рассказов «Конармии» - «Пан Аполек» - начинается так: «Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынском, наспех смятом городе, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира Евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал обет во всем следовать пану Аполеку. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения принес я в жертву новому обету».
Бабель не стал иконописцем, как пан Аполек, - он стал художником, просто художником. Он, так сказать, довольствовался малым, а если сказать по-евангельски, избрал благую часть. Это и есть служение Марии, тем более, если сестра Марфы - та самая Магдалина.
Или, как говорила Цветаева, негр в Пушкине - негатив, который лучше позитива.
Аркадий Ипполитов
Гости съезжались на Daatchia
О революционной радикальности современного искусства
Восхищаться всем, чем по прихоти обильной торгует Лондон щепетильный, для русской души так же естественно, как и возмущаться происками британской короны на Востоке и на Балканах. Англичанка, конечно, гадит, но кому подражать, как не ей? Сейчас в Эрмитаже открылась большая выставка «Америка сегодня. Выбор Саатчи», иллюстрирующая современный лондонский вкус, благоговейно признанный повсюду, в том числе и в нашем отечестве. На выставке продемонстрированы работы молодых художников, живущих в США, которым, по мнению лондонского галериста Саатчи, сейчас самого крупного и известного в мире, принадлежит будущее. Саатчи считается законодателем художественной моды, и эрмитажная выставка эту моду прекрасно демонстрирует. Как ни крути, в Петербурге произошло очень крупное событие - в связи с чем мы позволили себе небольшую фантазию.
Daatchia - так называется моднейший арт-клуб, в здании старого хлебозавода двадцатых годов прошлого века, расположенный на окраине восточного Лондона. Входя в ряд промышленных предприятий, давно уже превращенных в различные бизнес-центры, этот хлебозавод был яблоком раздора между алчными строительными фирмами и комитетом по охране национального наследия, так как он был объявлен памятником архитектуры ар деко, поэтому комитет упорно противился его сносу. Он долго стоял пустой, торча черной махиной посреди растущего благополучия. Время от времени там пытались угнездиться художественные сквоты, и несколько раз проводились съемки артхаусных фильмов, получивших определенную известность в узких кругах. Недавно бизнес и общественность пришли к компромиссу: хлебозавод был передан в частное владение с разрешением реконструкции, но при условии, что общий вид экстерьера и интерьера будет сохранен. Сохранение интерьера оказалось очень условным, большая часть помещений была перепланирована и отдана под конторы, но один этаж, специально, чтобы показывать прессе и комиссиям, был оставлен относительно нетронутым. Его отвели под ресторан клубного типа, время от времени проводящий закрытые культурные мероприятия, вроде показов радикальной моды и чествований радикальных знаменитостей, очень хорошо разрекламированные. Они, эти мероприятия, служили громоотводом для общественного мнения, решая задачи гораздо более крупные, чем реабилитация переоборудования какого-то хлебозавода.
Этаж - впрочем, как и все остальное здание - принадлежал всемирно известному арт-дилеру Эрику Даатчи, последнее время определявшему мировую художественную политику. Выставки, им устраиваемые, всегда были прорывом вперед, к новым горизонтам, они открывали новые имена, создавали новые репутации, и художники, отмеченные вниманием Даатчи, носили его клеймо с гордостью породистых псов, демонстрирующих на своих ошейниках заработанные медали. Стая молодых британцев, выпущенная им на мировой рынок после знаменитого шоу «Британия-2000», стала почти такой же гордостью острова, как и «Битлз». Ну, не такой же, конечно, но - почти. Во всяком случае, художественный застой Альбиона они всколыхнули, и о молодом британском искусстве заговорили столь интенсивно, что по произведенному эффекту на мировую общественность «Британию-2000» сравнивали с показом Тернера и Констебла в Париже девятнадцатого века и с появлением на мировой сцене британского поп-арта в начале 60-х.
Для художественной общественности Даатчи был фигурой мифологической. Впрочем, его занятия арт-бизнесом не исчерпывались, отнюдь не исчерпывались, зато именно они гремели так, что все остальное как-то растворялось в сиянии его художественной славы. Создание Daatchia было частью большого проекта, и ее планирование он заказал известнейшему архитектору, славному своим вмешательством в пространство многих культурных памятников. Кто-то этим вмешательством был недоволен, но имя архитектора было у всех на слуху, так что в заказах у него не было недостатка. Особенно к нему любили обращаться компании, получившие подряды на большие стройки в центрах старых городов: архитектор обладал достаточным весом, чтобы оправдать любые жертвы, приносимые во имя движения прогресса, и заткнуть глотки его реакционным противникам. Из-за популярности, заставляющей его постоянно давать интервью, времени у архитектора совсем не было. Так что его деятельность уже давно свелась к тому, что он просто ставил свое имя на многочисленных, похожих друг на друга, как близнецы, планах, вылетавших из его конторы, в которой работала большая интернациональная команда, набранная со всего земного шара. Эта контора носила имя Школы и была весьма престижна, хотя платили за работу в ней весьма умеренно.
Daatchia являла прекрасный пример подобного коллективного творчества. Стены и перегородки были снесены, чтобы максимально увеличить пространство, была обнажена кирпичная кладка, идеально отшлифованная, белесо-красная, служившая фоном для неправильной формы штукатурных панно, расписанных известной художницей фресками, подражавшими уличным графитти. Эти панно, имитирующие атмосферу сквота, выкопанного из-под пепла, были написаны так, что часто встречающиеся в них слова fuck и suck напоминали о латинских надписях на стенах Помпеи. Для атмосферы было оставлено несколько старых цеховых агрегатов, покрашенных тусклым серебром, а середину занимал длинный конвейер подчеркнуто функционального вида. В общем, все выглядело крайне благородно.