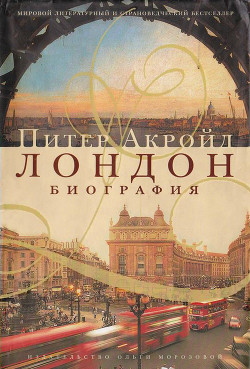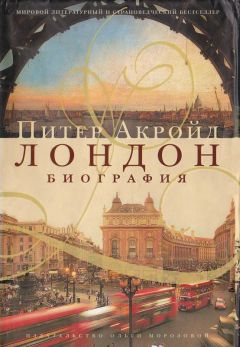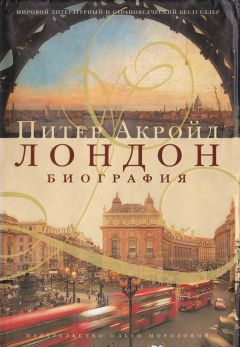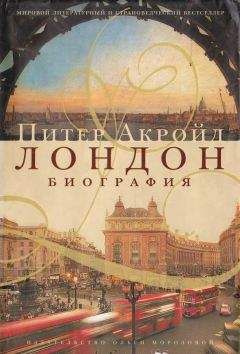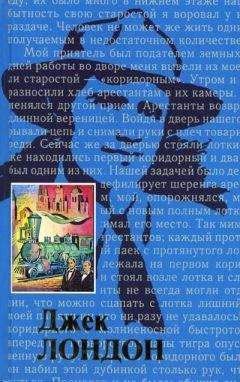Во времена, описываемые Вордсвортом, ярмарка постепенно расширяла свою территорию и к 1815 году в одном направлении достигла Сент-Джонс-стрит, в другом почти добралась до Олд-Бейли. Она, кроме того, стала опасным местом, где орудовали воровские банды, известные под названием «шайка леди Холланд»; их члены «грабили посетителей, избивали ни в чем не повинных прохожих дубинками, набрасывались на людей почем зря». Это уже не были веселые празднества XVIII столетия, и конечно же, ярмарка не соответствовала тому респектабельному климату, что установился к середине XIX века. Варфоломеевская ярмарка не могла долго существовать в Викторианскую эпоху и в 1855 году приказала долго жить, не вызвав в обществе глубокой скорби.
Как бы то ни было, Вордсворт сумел разглядеть в образах ярмарки некий важный и постоянный аспект лондонской жизни. Он распознал – и, распознав, отверг – неотъемлемо присущую городу и бьющую через край театральность, которая вполне довольствовалась просто выражением контраста, чистым показом без всякого внутреннего или остаточного смысла. В той же седьмой книге его «Прелюдии», которая называется «Пребывание в Лондоне», описывается «стремительная пляска на иноземцах всех возрастов цветовых пятен, бликов и форм, вавилонский шум». Вордсворта коробит эта игра различий с ее подвижностью, с ее неопределимостью. Несколькими строками ниже он говорит: «Магазин за магазином, повсюду символы, выставленные напоказ названия… фасады домов, подобные титульным листам книг»; иными словами, город демонстрирует бесчисленное множество зримых форм, ни одна из которых не выше какой-либо другой. Вордсворт замечает висящие на стенах листы с балладами и громадные рекламные плакаты, слышит крики уличных разносчиков, перечисляет характерные типы горожан: «Калека… Холостяк… Праздный военный» – будто выхватывая все это из некоего громадного и нескончаемого театрального представления.
Однако понимает ли Вордсворт до конца ту реальность, которую он столь ярко описывает? Эти «словно по волшебству меняющиеся декорации», эти «драмы живых людей», эта «громадная сцена», эти «публичные спектакли» и участвующие в них актеры, возможно, как раз и выявляют подлинное лицо Лондона. Присущая ему театральность ведет к «экстравагантности в жестах, выражении лица, одежде», из-за которой люди на больших и малых улицах становятся «подвижными картинами»; даже стоящий на тротуаре нищий повесил на грудь плакат, где изложена история его жизни. Реально ли все это? Возможно, и нет – по крайней мере, вполне может показаться, что нет. Вордсворт полагал, что видит только «parts» – «составные части» (это слово означает также и «роли»), и не в силах был вывести из их совокупности никакого «ощущения целого». Возможно, то была его личная неудача?
Вордсворт был прав относительно органически свойственной городу театральности, однако на ту же театральность можно взглянуть и с иной точки зрения. Она может стать источником восторга. Чарлз Лэм, великий лондонец, воздал своему городу хвалу, сравнив его с «театром и маскарадом». «Чудо этих зрелищ вовлекает меня в вечерние странствования по многолюдным улицам, и нередко на ярко-пестром Стрэнде при виде такой полноты жизни на глаза мои наворачиваются слезы радости». Маколей дивился «ослепительной яркости лондонских зрелищ»; Джеймс Босуэлл полагал, что они заключают в себе «человеческую жизнь целиком, во всем ее многообразии»; для Диккенса они были «волшебным фонарем», который наполнял его воображение диковинными драматическими образами и мгновенно возникающими сценами. Для каждого из этих лондонцев – рожденных в городе или им усыновленных – театральность Лондона является его важнейшей чертой.
Напор толпы, собравшейся в 1863 году посмотреть торжественное открытие первой подземной железной дороги, газеты сравнили с «давкой у театрального подъезда в вечер рождественского представления». Дональд Дж. Олсен, автор книги «Рост Лондона в викторианскую эпоху», уподобил виды, открывавшиеся пассажирам тех времен при движении через город на поезде, «непрерывно идущей в жизни волшебной смене декораций, какая бывает в рождественском представлении». Не случайно именно Лондон всегда считался обиталищем привычных театральных персонажей – «благородного оборванца», «пройдохи из городских», «юного ловкача». В середине XVIII века в витринах магазинов гравюр выставлялись карикатурные изображения лондонских «типов», а самые большие городские модники тех лет использовали соответствующие костюмы для маскарадов и прогулок инкогнито.
Самая знаменитая серия изображений, представляющая лондонские персонажи, – «Уличные крики города Лондона, запечатленные с натуры» Марцеллуса Ларона – была опубликована в 1687 году и показывает немало профессий и родов занятий, основанных на актерском перевоплощении. Многие нищие прибегали к маскараду, чтобы разжалобить идущих мимо «зрителей»; Ларон, давая свой образец «лондонского нищего», взял в качестве модели вполне определенную женщину. Имени ее он не приводит, однако известно, что ее звали Нэн Миллс; как пишет редактор последнего издания серии, она была «не только хорошей физиономисткой, но и отличной мимической актрисой… она могла изобразить на лице любую разновидность беды или отчаяния». Нет причин сомневаться, что она при этом действительно была бедна и сознавала свое падшее состояние; здесь тоже сквозит тайна Лондона, где страдание и мимикрия, нищета и театр срослись до того, что стали неразличимы.
В Лондоне и преступление с его ритуалами (как и поиск преступника) стало рядиться в театральные костюмы. Джонатан Уайлд, знаменитый лондонский злодей середины XVIII века, заявил: «Маска – это summum bonum [26] нашего столетия»; маршалмены – городские полицейские чуть более позднего времени – носили треугольные шляпы с загнутыми полями и мундиры с блестками на пуговицах. Частному же детективу подобала более тонкая, маскирующая театральность. На ум приходит Шерлок Холмс – персонаж, который мог существовать только в сердце Лондона. По словам доктора Ватсона, у Холмса было в Лондоне «по меньшей мере пять укромных местечек, где он мог изменить внешность». В свою очередь, тайна доктора Джекила и мистера Хайда могла быть передана лишь через посредство «завивающегося кольцами» лондонского тумана, где характер и сама личность человека могли внезапно и по-театральному затмиться или измениться.
Если преступление и розыск не могут обойтись без маскировки, то наказание в Лондоне располагало целым театром суда и страдания. Процедура уголовного суда в Олд-Бейли была разработана по образцу драматического спектакля, и разбирательство называли «гигантским представлением с Панчем и Джуди», на котором судьи сидели в открытом с одной стороны зале, при взгляде снаружи напоминающем задний план театральных декораций.
Поскольку Панч, который в конце концов ухитряется вздернуть на виселицу палача Джона Кетча, является воплощением бесчинства и беспорядка, дух его неизбежно возникает и в обстоятельствах предельно тягостных и мерзких. Подвальный этаж долговой тюрьмы Флит называли «Варфоломеевской ярмаркой»; в церкви Ньюгейтской тюрьмы была галерея, куда приглашали желающих посмотреть на смертников, добровольно развлекавших зрителей всяческими выходками и вызывающим поведением. Мы читаем, к примеру, о некоем Джоне Ригглтоне, который «имел обыкновение подкрадываться к ординарию [тюремному священнику], когда тот молился с закрытыми глазами, и громко кричать ему в ухо». Это, разумеется, амплуа второго клоуна в рождественском представлении.
В тюремной церкви театр не заканчивался – он продолжался на той небольшой сцене, где происходила казнь. «Обращенные кверху лица взволнованных зрителей, – писал один из авторов „Ньюгейтских хроник“, – напоминали лица „богов“, сидящих в верхнем ярусе театра „Друри-лейн“ на второй день Рождества». Другой очевидец отмечает, что перед самым повешением раздались крики: «Снимите шляпу – не видно!», «Не заслоняйте!» – как в театре. Один особенно театральный эпизод случился в 1820 году во время казни Тислвуда и его сообщников по «заговору Кейто-стрит», осужденных за измену. Во исполнение традиционного приговора все они были повешены и затем обезглавлены. «Когда пришел черед последней головы, палач поднял ее, но по неловкости уронил. Толпа закричала: „Эй, ты, дырявые руки!“» Эта маленькая сценка выявляет особый темперамент лондонской толпы, в равных долях соединяющей в себе юмор и свирепость.