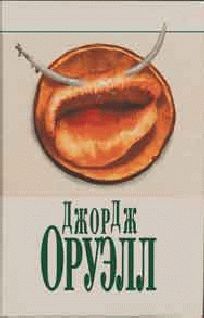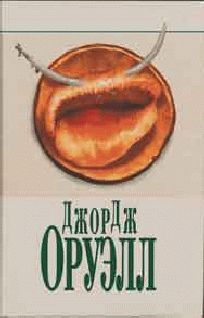У каждого персонажа Канетти сильнейший напор желаний. Но желания эти срезаны жизнью, осуществляются урывками и не полностью. Карманный вор и пройдоха Фишерле желает стать чемпионом мира по шахматам, для чего собрался за океан. Он даже ставил свои башмаки на первую ступеньку лестницы «поближе к Америке». Но его тут же убивают.
Невинная девушка, дочь консьержа Паффа, почти не смеющая выходить из дома, мечтает, как Полли в «Трехгрошовой опере» Брехта, что однажды за ней прибудет если не трехмачтовый бриг, то коляска с возлюбленным, и она гордо скажет: «Это за мной». Но возлюбленного, впрочем даже не подозревающего о ее мечтах, вскоре сажают за воровство.
Копится неудовлетворенность, кипит злоба. Но однажды кое-какие желания все же осуществляются.
Ближе к концу романа герои случайно встречаются, как у Достоевского, на площади. Пошатнувшийся в разуме, бездомный, еле живой Кин стоит на часах перед ломбардом, на последние деньги скупая приносимые сюда книги, чтобы тут же вернуть их владельцам. Ему мерещится, что люди исправятся, будут читать и больше уже никогда не расстанутся со своим Шиллером. Разумеется, его тут же надувают. На лестнице появляется Тереза, пришедшая в сопровождении Паффа закладывать фолианты мужа. Разыгрывается скандал, привлекающий общее внимание.
Это и есть момент счастья. Толпа, в том числе каждый из главных героев, может наконец взять свое, разрядиться. Люди легко заражаются безумием. Ищут вора, убийцу. Несмотря на разницу версий, толпа легко превращается в одно ревущее целое. Изоляции больше нет. Наступает восторг сообщества, единства желаний и равной для всех возможности показать себя. Выбор жертв очевиден. Это уродец-карлик и усохший интеллигент Кин, не знающий ничего, кроме своих книг. Его-то и берут под руки и, раздев догола, допрашивают в полицейском участке.
Так связаны в романе изоляция и тяга к общности, одиночество и масса. С самого начала речь ведется о невидимой, рассеянной массе, людях, тайные стремления которых, скрытые под разными масками (Тереза — «порядочная женщина», консьерж — «бравый служака»), поразительно совпадают, о едва сдерживаемой психической энергии, готовой вырваться наружу. Ведь и нежная дочь консьержа по ночам грезит не только о женихе, а еще и о том, как он отрежет ее отцу голову и с этой-то окровавленной головой они на свадебной коляске отправятся на могилу матери, чтобы порадовать и ее.
Фантастическая и страшная картина. Но так ли уж лишена она бытовой, психологической, социальной достоверности? Человеческое и бесчеловечность, изоляция и сообщество — два полюса, между которыми в романе напряженные связи.
Так же опасно сближаются огонь и книги. Им, однажды заговорившим с Кином человеческими голосами, все время грозит смертельная опасность. О возможном пожаре говорится на первых же страницах. На последних — Кин видит из окна пламя Дворца правосудия. И сам в панике и в помутнении разума жжет свои сложенные у дверей штабелями, как баррикада, книги. Огонь и сожжение книг в романе Канетти будто предсказали костры, на которых горели книги в фашистской Германии в мае 1933 года.
Но есть тут и еще один пласт значений. Огонь, пламя, напоминает Канетти в книге «Масса и власть», — это распространенное в фольклоре символическое изображение воинственной толпы, массы. Как огонь, она всюду равна себе. Как пожар, возникает внезапно и в любом месте. Огонь разрушителен, агрессивен. Как и масса, он пытается разрастись, переброситься, захватить близлежащие территории. Пожар в романе Канетти не только реальность, но и предостерегающий знак, сгусток смысла. Такой же значительный, как «слепота», «ослепление».
Синологическая ученость Кина, подвергнутая, как и все в романе, злому осмеянию за свою совершенную беспомощность, позволяет однажды автору привести для читателя сентенцию из древнего китайского мудреца Монга: «Они действуют, но не знают, что творят; у них есть привычки, но они не знают, что их породило; они всю жизнь движутся и все же не знают пути; таковы они, люди массы». Эти люди — убеждает Канетти — слепые. Их легко ослепляет любая принесенная со стороны, чужая идея. Массовое сознание легко поддается манипуляциям.
В пьесе «Ограниченные сроком» (написана в 1952 г., издана в 1964-м) Канетти нарисовал сообщество, членам которого вешают при рождении на шею ладанку с запиской об отпущенном им сроке. И люди принимают это как непреложность. По земле ходят те, кому, как они заранее знают, суждено прожить двенадцать, тридцать, восемьдесят лет. Люди с большим сроком обращаются с остальными с высокомерной снисходительностью. С меньшим — тушуются и робеют. При этом о тайне срока знает только сам человек. Но когда ладанку усопшего вскрывает священнослужитель, каждый раз подтверждается, что смерть наступила в назначенное время. Взбунтовавшийся герой обнаруживает, что ладанка на самом деле пуста. Но и это не может раскрыть людям глаза. Внушение усвоено. Жить по-заведенному, как оказывается, удобнее.
Слепота не просто жалкое состояние. Это еще и прибежище. И результат насильственного воздействия, ослепления.
С юных лет Канетти не уставал рассматривать картины Брейгеля, и ныне висящие в Венском художественном музее. Его поражали на них маленькие фигурки суетящихся, бессильных перед близящейся гибелью людей. На краю гибели видит Канетти и современное человечество.
Чему же при таком мрачном взгляде на жизнь, при таком безжалостном ее изображении мог посвящать этот автор свои многочисленные публицистические выступления? О чем он писал свои статьи? К чему призывал? Что заносил и заносит в дневниковые записи? Он надеется. При этом — удивительное дело! — его публицистика парадоксальным образом богаче полнотой человеческого, снисходительней, добрей, мягче, чем его художественные произведения, в которых автору важно было обнажить пружины, правящие нашим сознанием.
В «Ослеплении», как говорилось, Канетти обнажил, например, жесткую зависимость подчиненности и агрессии. Он, как под лупой, показал происходящее при этом в душах. В мемуарах он и не думает говорить о шипах, оставленных в собственной его душе приказаниями матери. Одно ее качество он видит в слиянии с другими, одно объясняет и извиняет другое. Канетти больше не препарирует — эта задача выполнена его художественным творчеством: мать, обронил он однажды, должна узнать в Терезе собственную свою властность. Фигуры романа концентрируют в себе то, что — как ни отмахиваемся мы от подобных признаний — в той или иной степени содержится в каждом из нас.
Все, написанное Канетти, помимо романа, пьес и книги «Масса и власть», вряд ли нуждается в комментариях и объяснениях. Статьи, воспоминания, путевые заметки, дневниковые записи читатель воспримет с той же непосредственностью, с какой они были написаны.
Многие его записи и статьи посвящены коллегам-писателям. Часто о них говорится прежде всего как о людях, потому что именно как люди, личности, а не только своим творчеством они оставили след в душе автора.
Нашему читателю будет интересно прочесть о встречах Канетти с Бабелем в Берлине 20-х годов. Канетти пишет, что знал и любил тогда две его книги (на немецкий язык были уже переведены «Конармия» и «Одесские рассказы». «Конармия», несомненно, была близка нашему автору изображением революционной массы).
Канетти писал о Конфуции и о Толстом, о классиках Гёте и Георге Бюхнере и о знаменитых своих современниках — австрийских писателях Германе Брохе, Карле Краусе, Франце Кафке, Роберте Музиле. Во всех случаях он писал еще и о самом себе.
Из необозримых богатств культуры, созданной человечеством, далеко не все, полагал Канетти, может сказать что-то нам, детям атомного века. Выбираешь то, что жизненно необходимо.
Творчество Германа Броха, автора романа «Смерть Вергилия», близко Канетти пониманием роли писателя в современном мире. Об этой роли больше, чем о Брохе, говорится в речи, посвященной его пятидесятилетию. Писатель, полагал Канетти, — это слуга своего времени, его измученный пес, тыкающийся мордой во все его углы. Свободы от времени он не знает. Главная его обязанность — присутствовать. Присутствие и участие его, однако, особые: писатель противостоит времени. Преданный пес, он одновременно и непримиримый его противник.
Какой резон был переводить на русский язык статью Канетти, посвященную Карлу Краусу? Блестящий публицист и драматург, интеллектуальный властитель Вены конца 10-х — 20-х годов, Краус у нас едва известен. Не лучше ли было начать с перевода самого Крауса, чем давать очерк о его творчестве? Лучше, если очерк был бы таким, что помещают в справочниках и энциклопедиях. Канетти же пишет об оказавшем на него огромное влияние человеческом и творческом подвиге Крауса, не потерявшем и сейчас значение примера.
Люди, полагает Канетти, обладают удивительной способностью отодвигать опасность в будущее и не желают увидеть катастрофичность настоящего. Огромное влияние Крауса объяснялось, как полагает Канетти, не только его демократизмом и ненавистью к войне, но и как раз тем, что не давалось большинству, — его способностью ужаснуться, соединенной с «абсолютной ответственностью». Обладавший особым ораторским даром, Краус заставлял сотни людей, постоянно собиравшихся на его лекции, ужаснуться окружающей жизнью, с совершенной отчетливостью увидеть, но еще в большей степени услышать (этой слуховой восприимчивостью Канетти не в малой мере обязан ему же) их город, их собственную страну и мир. Краус, пишет Канетти, был «мастером ужаса» и мастером решительно реагировать на ужаснувшие его явления. В статье «Первая книга — „Ослепление“» Канетти вспоминает, как на следующее утро после расстрела демонстрации 1927 года, в минуту глубокой душевной подавленности он увидел расклеенные по городу плакаты, требовавшие, чтобы полицей-президент Вены, давший приказ о расстреле рабочих, подал в отставку. Плакат был подписан единственным человеком — Краусом. Один, от своего лица, он потребовал справедливости.