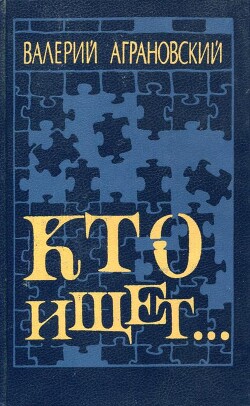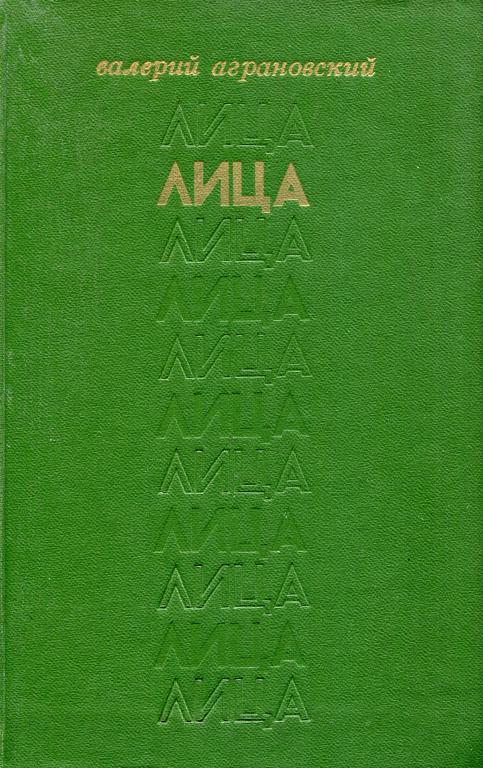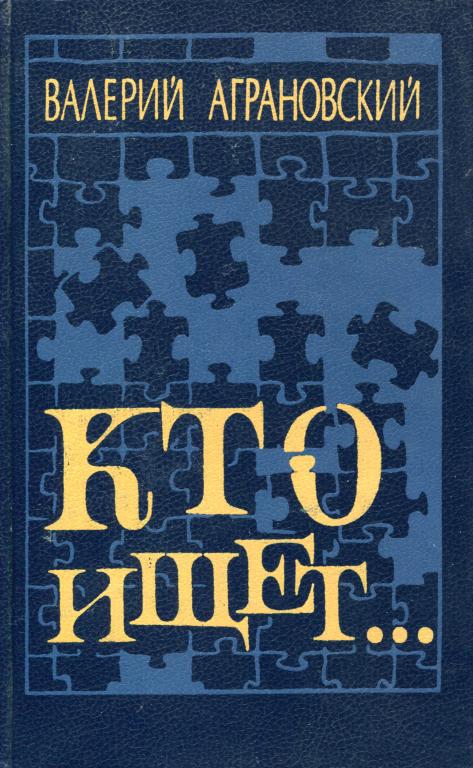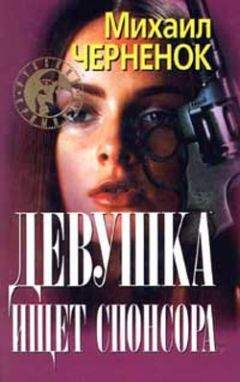Наверное, мы оба с Гурышевым ошибались. Ближе к истине находилась Марина Григо, которая знала Рыкчуна еще по университету. Она считала, что каждое его отрицательное проявление более естественно для него, чем положительное, а положительное объясняется актерством. Не будь толпы и восторженно раскрытых ртов, он не прыгал бы на льдину, не растрачивал щедро деньги, не вытаскивал вездеходы: все это требовало дополнительных усилий, а ему легче и проще было оставаться самим собой. Сам же собой Рыкчун был далеко не «титаном». Ему были чужды, считала Марина, истинно мужские интересы, он проигрывал в этом смысле даже ей, женщине. Она любила охоту и в экспедициях добывала мясо для мужчин, единственная из всего отряда таская на себе ружье; она колола дрова, возилась с собачьими упряжками, водила машину, изучала самбо и даже покуривала, в отличие от Вадима, для которого все эти дела были не главными, а лишь постольку, поскольку он подчеркивал в анкетах не «жен.», а «муж.». С большим бы удовольствием он занимался кухней или устройством своего быта: колечками для штор, нежными тонами, торшерами. Он иллюстрировал собой трагический процесс феминизации мужчин, происходящий в современном обществе, и никакая борода, с точки зрения Марины, его не спасала. Будь он физически послабее, он стал бы трусом, — Марина в этом была уверена, полагая, что его смелость не есть черта характера, а производное от бицепсов.
В полном соответствии со своими правилами она резко и открыто говорила ему об этом, а он мрачно слушал, замыкался, скрежетал зубами, кричал: «Ну, полюби меня, я стану другим!» — а она отвечала: «Сначала стань!» Ей было очень трудно с ним, потому что, презирая его суть, она любовалась его формой.
Ходила легенда по Северу о парне, который, влюбившись, не стал говорить девушке слова, а принес ей убитого белого лебедя. Это была чистая и красивая символика, ведь белые лебеди встречались в тундре так же часто, как белые медведи на экваторе. Марина рассказала легенду Рыкчуну, и вот однажды, в одно прекрасное зимнее утро, проснувшись и выглянув на улицу, она чуть не лишилась чувств: у окна стояло цветущее зеленое дерево, достать которое в тундре было еще труднее, чем белого лебедя! Сердце ее забилось, хотя она точно знала, что это не Вадим, что ему не суждено совершать истинно мужских поступков. Марина до сих пор не знает, что за рыцарь преподнес ей царский подарок, возможно кто-то из бурильщиков, которые в то время работали на станции, а вскоре разъехались по домам. Что же касается Рыкчуна, он вернулся в то утро из поселка, волоча на себе мешок с сорока килограммами сухого молока: «выкинули» в магазине, а Вадим всегда запасался продуктами. «Дать тебе пару пачек?» — предложил он ей вместо белого лебедя. Через несколько дней Рыкчун уходил в поле, уходил, как обычно, один, отказавшись от помощников, настоящим первооткрывателем, и его провожала вся станция. Марина была в толпе, и он крикнул на прощание: «Не поминайте лихом!» Но поминать пришлось. Когда заболели дети у механика Петровича, мэнээсы облазили всю станцию, но так и не нашли ни одной пачки сухого молока: Вадим спрятал мешок, причем не в своей комнате. Целый год потом Марина травила его, называя «молоковозом», и при каждом удобном случае замечала, что у него «сухое молоко на губах не обсохло». Он мстил ей мелко, исподтишка и довольно глупо. Например, пустил слух по станции, что Григо имеет дворянское происхождение. Ее мать — таково было семейное предание — сидела девочкой на коленях у царя. Но Вадим, как близкий и давний друг Марины, прекрасно знал, что это не помешало матери стать большевичкой еще в девятнадцатом году и выйти замуж за большевика, отца Марины, человека простого, честного и доброго. Слух, сделав оборот, очень скоро вернулся, и на одном из научно-технических советов начальник «мерзлотки» Игнатьев, обороняясь от критики Марины, как бы невзначай бросил: «Ну, конечно, мы ведь не из графьев!» Рыкчун захохотал в голос, а Марина, взглянув на него, разрыдалась.
С Карповым мне было сложно говорить о Рыкчуне: они дружили с первого курса университета, хотя только на станции Карпов узнал истинную цену этой дружбы. И все же он сказал: «Рыкчун — мыслящая единица, безусловно способный человек, энергичный… — Потом подумал и добавил: — Слишком даже».
Таким был Вадим Рыкчун, вернее, таким нарисовался мне его образ. Но что-то важное, какой-то стержень еще отсутствовал, и я продолжал искать его, перебирая в памяти рассказы о Рыкчуне, чтобы найти суть этого человека, которая была бы способна не только объяснять его поступки, но и родить ему главную цель в жизни. И тут я подумал: стоп, эта цель уже существует, ну как я мог забыть о ней! Еще студентом Рыкчун говорил своим друзьям, что к своему тридцатилетию непременно будет директором научно-исследовательского института. А летом, отдыхая на юге и заводя пляжные романы, представлялся девушкам начальником полярной станции, жутко секретной, а потому не имеющей общедоступного адреса. Это тоже была поза, тоже актерство, но все-таки не «коктейль», а, скорее, чистый напиток, именуемый «карьеризмом»…
4. ЗА ОБЩИМ СТОЛОМ
Утром меня ждали три сюрприза подряд.
Первым было явление начальника станции Игнатьева. Он пришел ко мне в комнату и, убедившись, что я уже закурил утреннюю папиросу, стал делать зарядку. Почему ее надо было делать в моем присутствии и непременно в комнате Рыкчуна, я до сих пор не знаю. Был он маленький, толстенький, в длинных черных трусах до колен, в белых шерстяных носках, спущенных на тапочки, а на носу у него сидели круглые «мартышкины» очки. Я лежал и молча смотрел, как он приседает и прыгает с пятикилограммовыми рыкчуновскими гантелями и растягивает тугой рыкчуновский эспандер. Потом он ушел, добродушно мне улыбнувшись, хотя я понимал, что приезд корреспондента вряд ли ему приятен. Через несколько минут он уже мыл полы и посуду: жена его Нина поехала на материк за детьми, он сам хозяйствовал и, вероятно, любил чистоту и порядок. Из соседней комнаты до меня доносилась песенка, пел он тонким и пронзительным голосом, звучащим подчеркнуто независимо. Игнатьев на кого-то был похож, я никак не мог вспомнить, пока вновь не увиделся с Гурышевым, который сказал: «Знаменитый артист Леонов в отрицательной роли!» И верно, он даже манерой говорить походил на Евгения Леонова: так же быстро произносил слова, разделяя их не всегда логичными паузами. Но что говорил Игнатьев! У окружающих возникало смешанное чувство восторга, недоумения и надежды на то, что все это происходит не наяву, а в кинофильме, и каждую секунду можно ждать от Антона Васильевича Игнатьева: «Ладно, теперь поговорим серьезно». Увы, он играл самого себя, будучи, возможно, другим, но слишком входил в роль.
Пока я умывался, на улице послышался рев вездехода, затем громкие голоса людей, причем один голос выделялся хозяйскими интонациями. Это был второй сюрприз: приехал Диаров, научный руководитель станции. Наверное, Игнатьев вызвал его, как только моя нога ступила на территорию «мерзлотки», и шеф поспешил на место событий с первым утренним самолетом. Мы познакомились. Сергей Зурабович был несколько возбужден, но первым не начинал, ожидая, когда я сам скажу о цели моего визита. Ему было тридцать пять лет, но выглядел он моложе: сухой, жилистый, смуглый, с очень живыми, слегка увлажненными глазами. Приехал Диаров не один и представил мне своего попутчика, главного инженера какого-то строительного треста из Областного, командированного на станцию по трестовским делам.
Главный инженер и был свидетелем немой сцены, явившейся следствием третьего сюрприза: как в хорошо продуманном сценарии, открылась дверь и вошли с чемоданами в руках Карпов, Григо и Гурышев. Они пришли пешком из поселка, где была конечная остановка автобуса, привозящего пассажиров из Районного, а в Районный они попали транзитом через Областной прямо из Москвы, вылетев со Внуковского аэродрома следующим за мной рейсом. Как я понял, «заочный турнир» с Диаровым и Игнатьевым их не устраивал, они решили в моем присутствии выяснить с ними отношения и вот теперь, глупо улыбаясь, раскланивались с помрачневшим шефом, побледневшим начальником «мерзлотки» и со мной.