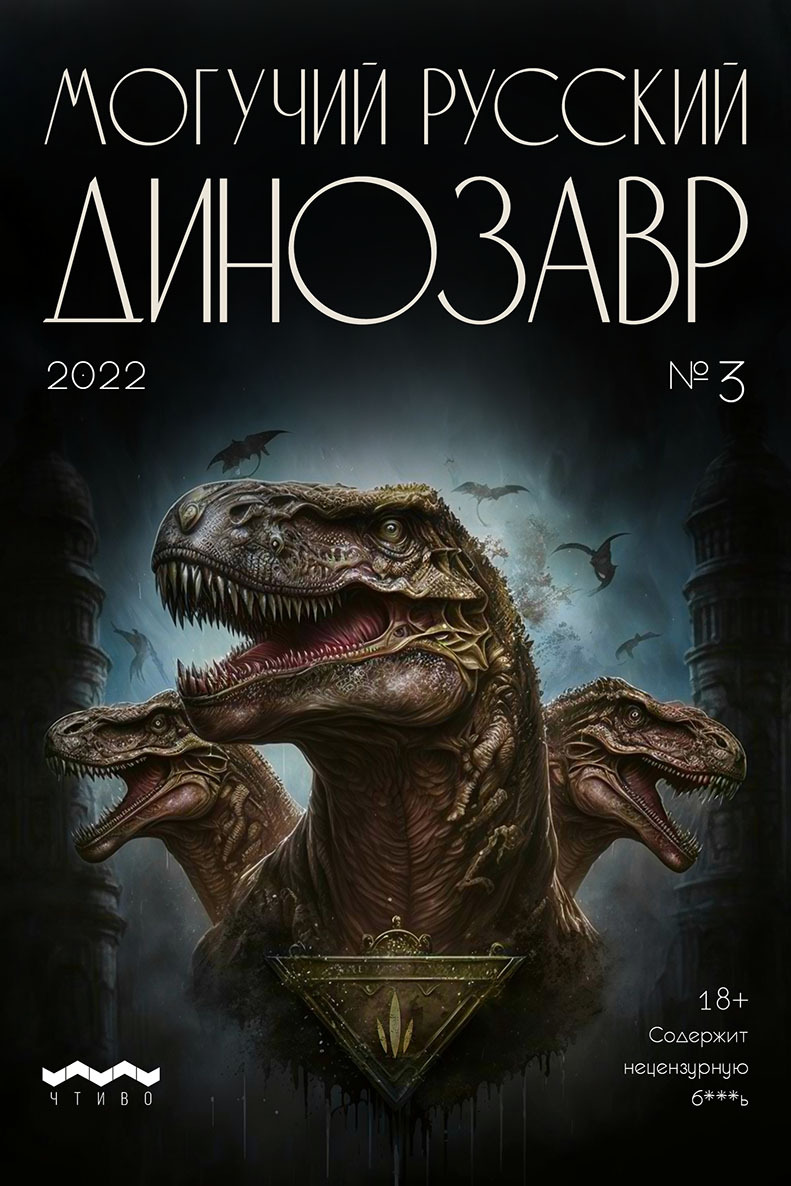В жизни мне выпадали только обрывки счастья. Мгновения радости.
Ф.Б. Напомню первую фразу твоей первой книги: “Мир – это страдание в действии” [80].
М.У. Очевидно, что это сказано не оптимистом. Счастье… Да ладно. Придется вообразить себе Уэльбека, бросившего писать. Надеюсь, подобная перспектива будет невыносимой.
Ф.Б. Ты, в принципе, скорее сторонник технологического прогресса (взять, например, клонирование людей в “Элементарных частицах” и “Возможности острова”). Что ты думаешь о трансгумани-стических утопиях гугла?
М.У. Я недавно за относительно короткое время потерял обоих родителей и свою собаку; не скажу, чтобы эти смерти принесли мне удовлетворение. Если можно будет жить до трехсот пятидесяти лет, я только за: осталось столько непрочитанных книг! Недавно я открыл для себя Теодора Фонтане [81] – это гениально. А вот идея с “умными очками” мне не нравится; по‐моему, это ужасно, все эти камеры с функцией распознавания лиц. На днях я ехал в метро и увидел рекламу сайта знакомств, которая ввергла меня в ужас: “Любовь не приходит случайно”. Мне захотелось сказать: “Именно что случайно! Оставьте уже нам хотя бы случай!”
Ф.Б. Я так и не понял, к какому лагерю ты принадлежишь. Ты за то, чтобы защитить человечество, или за “улучшение” человечества?
М.У. Скажем так: я не в восторге от занудства гуманистов. Если можно улучшить человечество, почему бы это не сделать? Вспоминаю одну конференцию, когда меня смешивали с грязью и называли нацистом потому, что я якобы выступал в защиту евгеники, генетики и так далее. И тут встает один инвалид и, с трудом шевеля губами, говорит в микрофон: “Лично… я… скорее… за”. Выглядело это ужасно, но всех успокоило. Естественно: мало приятного в том, чтобы страдать генетическим орфанным заболеванием. Вместе с тем всему есть границы. Вряд ли стоит подгонять человека под какие‐то стандарты. Если бы существовала норма правильного человека, ни ты, ни я не имели бы права на жизнь! (Смеется.)
После публикации этого интересного интервью меня в пух и прах разнесли в нескольких самых разных изданиях; в виде исключения две статьи я запомнил – скорее всего, по причине их полной несообразности.
В первой из них меня нарекли “младоморрасианцем”. Каких только эпитетов не изобретали, чтобы меня заклеймить (депрессушник, мракодел и т. д.), но этот, бесспорно, один из самых странных. Какую связь автор статьи усмотрел между Шарлем Моррасом [82] и прямой демократией? Прошло уже несколько лет, а я до сих продолжаю задавать себе этот вопрос.
Вторая написана в более сдержанных тонах, но на самом деле производит еще более ошеломляющее впечатление. Референдум, инициированный народом, подчеркивает автор, на самом деле наносит серьезный ущерб швейцарской экономике; руководители предприятий постоянно жалуются на вызванные этим риски непредсказуемости. Насколько мне известно, швейцарская экономика чувствует себя совсем не плохо, хотя проблема не в этом. Проблема в том, что я никогда ни у кого не наблюдал такой очевидной неспособности рассматривать вопрос под каким‐нибудь другим углом, кроме экономического; неспособности вообразить себе, что какой‐нибудь другой угол вообще существует.
К несчастью, я не помню ни имен авторов этих двух статей, ни даже названий изданий, в которых они были опубликованы. Что печально: в каком‐то смысле они заслуживают того, чтобы остаться в памяти.
Лекарство от экзистенциального выгорания [83]
Иногда случается – редко, но случается, – что современные социологи делятся с нами разумными соображениями о состоянии современного общества. В числе абсолютно новых явлений, получивших развитие в ХХ веке и не имеющих реальных аналогов в веках предыдущих, одним из самых неоднозначных и наименее изученных является, бесспорно, туризм.
Мне повезло – я знал Рашида Амиру, безвременно ушедшего несколько лет назад. Он как раз занимался социологией туризма, и я смог ознакомиться с некоторыми из его размышлений и замечаний, которые он не успел изложить в оформленной по всем правилам научной работе. Особенно потрясла меня история одной провансальской деревушки, жителям которой – пенсионерам – муниципальные власти выплачивали небольшие суммы, побуждая их вести максимально привычный образ жизни, известный нам в том числе благодаря фильмам Паньоля: играть в петанк, пить в тени платанов на террасе кафе пастис… Их единственной более или менее тягостной обязанностью была необходимость подстраивать свой распорядок дня под прибытие туристических автобусов с иностранцами и не возражать, если туристам хотелось их сфотографировать.
Скажем прямо: наша первая реакция на эту историю – отчетливый дискомфорт. У нас складывается впечатление, что к этим провансальским дедушкам относятся так же, как на севере Таиланда к женщинам-жирафам [84] или в Нью-Мексико к индейцам навахо, заставляя их на потеху придуркам, приехавшим на автобусе “Грейхаунд”, исполнять танец дождя; да, у нас складывается впечатление, что перед нами пример ущемления человеческого достоинства.
Фотографии Марка Латюйера передают этот дискомфорт с отчаянной выразительностью – нам кажется даже, что для каждой специально выбрано особенно тревожное освещение (хотя на самом деле освещение каждый раз разное). Если на фотографии присутствует человеческое лицо, то оно настолько подчеркнуто занимает центральное место и служит средоточием мысли автора, что даже попытка прикрыть это лицо маской (не пугающей и не гротескной – речь идет о легкой, реалистичной маске, призванной стереть с него выразительные черты) перекидывается на остальные элементы композиции, вызывая сомнение в их аутентичности. Следует отметить, что дискомфорт усиливается, если профессия персонажа связана с разведением скота или с производством еды (неужели мы до такой степени помешаны на том, что находим в своей тарелке?). И тогда несчастный “фермерский гусь”, несмотря на неизменно запачканные пометом перья на брюхе, выглядит подозрительно игрушечным, сосиски в шукруте кажутся бутафорскими, а “дары моря” – кадром из телесериала наподобие “Жизнь прекрасна”.
Однако дискомфорт, вызванный фотографиями Марка Латюйера, кажется мне еще более коварным и стойким, когда их сюжет касается не профессиональной жизни, а более личных вещей. Чувство особенной неуютноси вызывает у меня “Причастие” (и даже закрадывается вопрос, а правда ли священник добровольно согласился фотографироваться). Да и семейная жизнь явно не относится к тем пластам реальности, которые поддаются безопасной переплавке в ролевую игру. Конечно, есть нюансы. Фотография “В салоне Лафайет” почти не раздражает, поскольку очевидно, что представители аристократии начиная примерно с Людовика XIV исполняли одну-единственную социальную функцию – играть роль аристократов. Но на “Час заката” реально больно смотреть: запечатленное семейство (мы догадываемся, что они принадлежат к средней буржуазии, исповедуют католицизм, придерживаются левоцентристских взглядов, читают газету Ouest-France и участвуют в гуманитарных акциях в пользу Гаити) явно испытывает затруднения, когда его вынуждают играть роль семьи.
Таким образом, перед нами собрание фотографий,