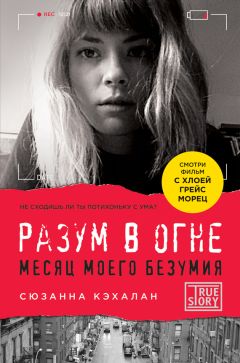– И снова тот же вопрос. Как бы вы оценили свое самочувствие в процентах из ста?
Я отвечала не раздумывая:
– Сто.
И на этот раз и мама, и папа согласно закивали. Даже мама наконец согласилась с моей оценкой.
– Ну, тогда должен сказать, что вы больше не представляете для меня интереса, – с улыбкой проговорил доктор Арслан, и наши с ним профессиональные отношения на этом закончились.
Он посоветовал продолжать принимать успокоительные и антипсихотические средства еще неделю, а потом прекратить. Объяснил, что они мне больше не нужны. То есть доктор Арслан провел совокупную оценку моего состояния и пришел к выводу, что я полностью выздоровела. Мама с папой обняли меня, а потом мы пошли в соседнюю закусочную и отпраздновали это событие кофе с яичницей.
Хотя сообщение доктора Арслана подняло нам настроение, в реальности мне предстояло пройти еще долгий путь, чтобы снова стать тем человеком, каким я была когда-то. Было ясно, что я нахожусь на стадии выздоровления, которая еще не изучена. Доктор Далмау и другие ученые тогда еще только вели ее пристальное изучение.
– Обычно, по оценкам родных, друзей и врачей, выходит, что пациент уже выздоровел, но, по мнению самого пациента, это не так, – объяснил мне доктор Далмау, когда вскоре после выписки из больницы мы с ним говорили по телефону. – И это расхождение сохраняется еще долго. Процесс выздоровления может занять два-три года, а то и больше.
Пациенты выходят на работу, начинают нормально функционировать в обществе и даже живут одни, но все же им кажется, что те вещи, которые раньше получались сами собой, теперь даются с трудом. И пропасть между ними «настоящими» и теми, кем они были до болезни, по-прежнему сохраняется.
Сразу после моего выхода на работу доктор Наджар разрешил мне покрасить волосы – шрам, из-за которого волосы не отрастали, хотя меня уверяли, что они вырастут, наконец зажил, и кожу головы можно было подвергнуть воздействию сильных химикатов, содержащихся в краске. Я пошла в салон «Аррохо» в Сохо, недалеко от въезда в тоннель Холланда. Колорист сделала мне контрастные платиновые пряди, а мастер отрезала челку до бровей, которая ложилась на правую сторону и прикрывала открытый участок кожи. Она спросила, откуда у меня шрам, и я немного рассказала ей о том, что со мной произошло. Моя история так ее тронула, что она еще целый час накручивала мои жесткие волосы на бигуди (из-за лекарств они изменили структуру).
На обратном пути в Саммит я шла к метро, чувствуя себя на миллион долларов, и тут услышала, как меня окликнул знакомый голос. Я оглянулась, надеясь, что мне послышалось, и увидела на нижней ступеньке лестницы своего бывшего парня. В прошлый раз мы общались задолго до моей болезни.
– Я слышал, что с тобой что-то случилось, – смущенно проговорил он. – Прости, что не звонил. Думал, ты вряд ли захочешь меня видеть.
Я ответила, что нет, он не прав, мы обменялись парой общих фраз и распрощались. В другой жизни это был бы идеальный момент, чтобы встретить бывшего – на выходе из салона красоты. Но мне казалось, что у меня выдернули почву из-под ног, и это было неприятно. Я видела, что ему меня жалко, а что может быть хуже, чем жалость в глазах бывшего возлюбленного?
Стоя на платформе, я проигрывала в голове эту встречу и тут увидела свое отражение в окне прибывающего поезда. Мои завитые волосы растрепались и стали похожи на мочалку, лицо опухло, тело расплылось. Буду ли я когда-нибудь чувствовать себя уютно в своей «шкуре»? Или неуверенность в себе станет моим вечным спутником?
Я была совсем не той уверенной «прежней» Сюзанной, с которой когда-то встречался мой бывший, и ненавидела себя за то, как сильно изменилась.
Меньше чем через месяц после выхода на работу мама получила письмо от ассистента доктора Наджара. Тот приглашал нас посетить врачебный доклад доктора по анти-NMDA-рецепторному энцефалиту в университете Нью-Йорка. Врачебные доклады – это распространенная в медицинских институтах практика, в ходе которой врач представляет случаи пациентов студентам и коллегам[19].
Тем утром в конце сентября по дороге из Нью-Джерси в Нью-Йорк образовалась огромная пробка, и мы опаздывали. Мама, Аллен, Стивен и я побежали к лекционной аудитории. У входа нас уже ждали папа, Анджела и Лорен – моя подруга и управляющий редактор «Пост».
– Кажется, уже началось, – сказала Анджела, когда мы вошли.
Сотня кресел в зале была заполнена людьми в белых лабораторных халатах. Они внимательно слушали доктора Наджара – тот стоял на сцене и в своей торопливой манере рассказывал про «аутоиммунный энцефалит».
Мы пропустили «знакомство с 24-летней пациенткой С. К.», поэтому я так и не поняла, что речь идет обо мне. А доктор Наджар тем временем рассказывал о безупречных анализах пациентки – трех МРТ, анализах крови и мочи на токсины. Он упомянул о том, что в спинномозговой жидкости обнаружили повышенное содержание белых кровяных клеток, что навело его на мысль провести биопсию мозга, поскольку другие варианты были исчерпаны.
– Он говорит обо мне? – спросила я родителей.
Мама кивнула:
– Кажется, да.
Доктор Наджар включил слайд – увеличенный снимок образца, взятого во время биопсии мозга. Он был покрыт розово-лиловыми пятнами, а кровеносный сосуд окружали сине-фиолетовые пятна. Темные участки, объяснил доктор Наджар – это воспалительные клетки микроглии.
– Он рассказывает про мой мозг, – прошептала я, хотя в тот момент и не понимала, что изображено на слайдах.
Я знала лишь, что сотня незнакомцев сейчас разглядывала снимок части моего организма. Многие ли могут похвастаться тем, что позволили чужим людям в буквальном смысле заглянуть себе в голову? Доктор Наджар продолжал рассказывать о моей мозговой ткани, а моя рука невольно потянулась к шраму от биопсии.
Затем он включил другой слайд – на нем было изображено нечто, напоминающее тонкую цепочку подковообразной формы с нанизанными на нее сиреневыми и черными самоцветами.
Доктор Наджар объяснил, что в ходе биопсии мозга врачи обнаружили кровеносный сосуд, атакуемый лимфоцитами. Далее он заметил, что пациентам с анти-NMDA-рецепторным энцефалитом биопсию мозга проводили лишь несколько раз, поэтому эти слайды – редкая и очень информативная возможность взглянуть на больной мозг, о котором нам так мало известно.
Доктор закончил лекцию словами:
– С гордостью сообщаю вам, что пациентка полностью восстановилась и вернулась на работу в «Нью-Йорк Пост».
Анджела толкнула меня локтем, Лорен улыбнулась, а Стивен и мои родители засияли.
Когда в тот день мы вернулись в офис, Анджела рассказала о презентации нашим редакторам – Стиву и Полу. Стив заинтересовался и вызвал меня к себе.
– Анджела говорит, что ходила послушать доклад о твоей болезни, – сказал он. – Не хочешь написать репортаж от первого лица?
Я решительно кивнула. Я надеялась, что моя история покажется редакторам достаточно интересной и меня попросят написать репортаж. Мне не терпелось наконец применить свой репортерский инстинкт, чтобы исследовать случившееся со мной.
– Отлично. К пятнице успеешь?
Был вторник. Мне показалось, что пятница – слишком рано, но я твердо решила: статье быть. Я была очень взволнована, хоть и напугана и слегка ошеломлена тем, что мне придется поделиться с миром месяцами своего блуждания в тумане. Большинство коллег по-прежнему не подозревали о том, что творилось со мной во время долгого отсутствия (а в каком-то смысле я и сама не подозревала об этом). Поэтому я волновалась, что этот репортаж сведет на нет все мои попытки снова зарекомендовать себя как профессионала, которые я усердно предпринимала последние несколько недель. Но я не могла устоять перед таким предложением: ведь у меня появилась возможность вернуть потерянное время и доказать себе, что я способна разобраться, что же произошло с моим организмом.
Итак, обуреваемая противоречивыми мыслями, я навострила репортерское перо и принялась расспрашивать родных, Стивена, доктора Далмау и доктора Наджара, пытаясь составить представление о своей болезни и связанных с ней более глобальных проблемах.
Больше всего меня занимал самый главный вопрос: сколько еще людей за всю историю человечества переболели этой болезнью и подобными заболеваниями, но так и не получили должного лечения? Этот вопрос становился еще более насущным ввиду того, что некоторые врачи, с которыми я общалась, считали, что болезнь существовала с начала времен, – а открыли ее только в 2007 году.
В конце 1980-х годов канадский француз, детский невролог Гийом Себир заметил странную закономерность симптомов у шести детей, которые лечились у него в период с 1982 по 1990 год. У всех отмечались двигательные нарушения, в том числе нервный тик и гиперактивность, когнитивные нарушения и припадки. При этом результаты КТ были нормальными, как и биохимия крови. Детям поставили диагноз «энцефалит неизвестной этиологии» (в просторечии известный как синдром Себира). Болезнь длилась в среднем десять месяцев, и четверо из шестерых детей выздоровели полностью. В течение двадцати лет единственное, чем располагали врачи, – туманное описание Себира.