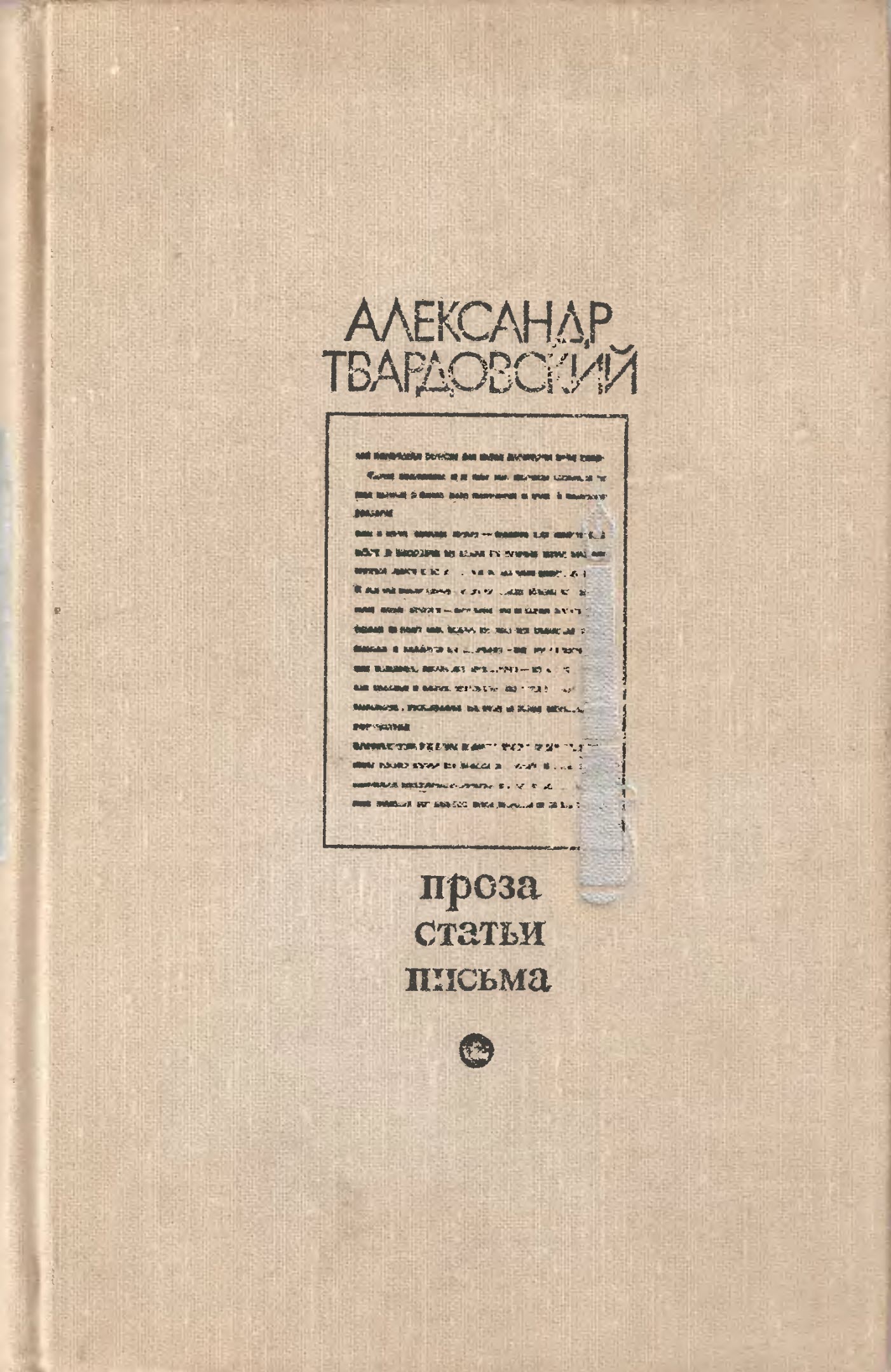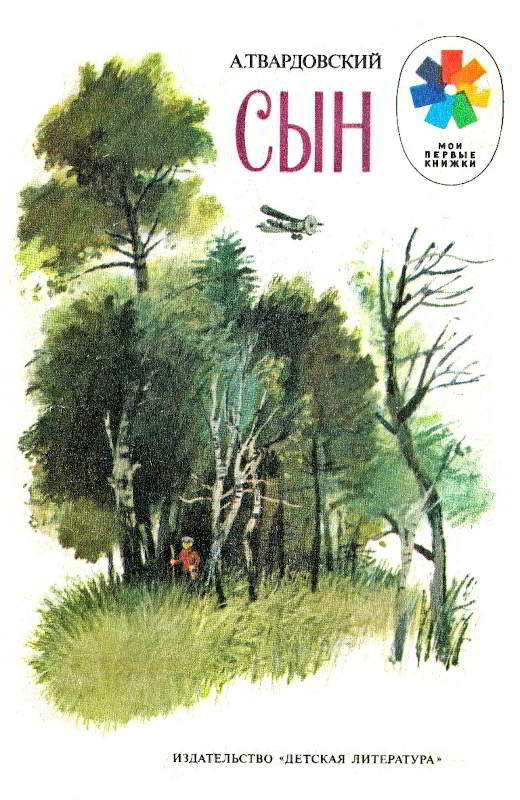перед людьми, для которых он оставался прежним Гришей, что вступается и за себя.
— Пойду к председателю, — сказала она, накидывая шубенку. — Сейчас и пойду.
— Зачем ты пойдешь, — испугался Гриша, чувствуя, что несмотря на предпочтение, оказываемое ему Настей, она не послушается в таком деле.
— Пойду требовать аванс. Пиджак-то надо покупать? Или в этом ходить будешь? — И, точно проверяя убедительность своих доводов, возбужденно заговорила: — Годится это, скажу, что он у вас ходит в таком пиджаке? Хуже других он работник, что ли? Нет, не хуже, скажу, а может, лучше. А за аванс нам есть чем ответить. Пять раз есть. У какой семьи столько трудодней?.. То-то… Дайте человеку одеться, чтоб он на человека был похож, чтобы на его одежу собаки не бросались. Вы из него дурачка строили, а я за него вышла — не позволю. Нищих у нас в колхозах нс должно быть!..
Слова се очень поправились Грише. Но, оставшись один, он забеспокоился и затосковал: не может этого быть, чтобы люди так считали. Он знал, что Насте откажут, по он боялся другого — что все это станет известным и над ним насмеются еще больше.
Когда через час Настя пришла, довольная, радостная, и сказала, что аванс дадут, послезавтра можно в город ехать, он быстро спросил:
— А был там кто-нибудь у председателя?
— Был.
— Кто?
— Морозов был, Андрей твой был. Насчет бани приходили.
— Что ж они?..
— Ничего.
— Ничего?
— Ничего. «Как же ему отказать, говорят, он у нас первый работник».
— А что ж! — просиял Гриша. — Первый не первый, да и не последний. — Он уже от чистого сердца простил этим людям их шутки, неуважение, все…
— Насть? — сказал он, неловко приблизясь к ней. — А что я думаю, Насть? Купим мы лучше тебе пальто? Мне зачем? Я уже старый черт — зачем мне форсить? — И довольный своим определением, как похвалу, повторил: — Я старый черт!..
Настя вспыхнула. Ей, видимо, очень понравилось, что он ее считает молодой, — она как-то совсем по-девичьи, быстро облизнула губы и потупилась:
— Да нет, нет. Я уже тоже не молоденькая, Гриша. — И сейчас же строго отрезала: — Тебе покупаем. О том и разговор был.
И он опять почувствовал, что она ему не уступит, она лучше знает.
Вместе с чувством нежной благодарности к ней он ощутил в себе силу, легкость и непривычную для самого развязность. Его не стесняли теперь большой рост, руки и ноги, которые всегда, где бы он ни стоял, ни сидел раньше, казались ему слишком длинными.
Утром, застав возле бани плотников, куривших на бревнышках, он, не поздоровавшись, с веселой приятельской хлопотливостью поторопил их:
— Кончай, кончай, ребята, курить. Надо дело делать!
И плотники, быстро затянувшись, затоптали окурки.
• С КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА
(Из фронтовой тетради)
Заметки эти в большей части — «расшифровка» и переделка карандашных записей со страниц записной книжки в «Рабочую тетрадь» 1939–1940 годов. Занялся я этим тотчас по окончании боев в Финляндии из опасения, что по прошествии времени сам не смогу разобраться в тех записях, сделанных по выработавшейся журналистской манере с сокращениями и условными обозначениями, где иногда одна фраза и даже одно памятное словечко содержало для меня целый эпизод, биографию, картинку. На память я никогда не жаловался и чаще всего беседовал с людьми, не вынимая из полевой сумки своей толстой записной книжки не только потому, что иногда это было просто неудобно: замерзали руки, было темно или беседа проходила в пути. По опыту корреспондентских поездок в 30-х годах я знал, что люди в большинстве хуже рассказывают «под карандаш», то и дело косясь на твой блокнот, сдерживаются, настороженно выбирают слова. Только по окончании беседы, будь она даже в тепле и при свете, за столом, я, улучив минутку, переспрашивал имена, уточнял даты, названия местности и записывал их в книжку. Только из документов (боевые донесения, письма и т. п.) я делал, если представлялось возможным, точные дословные выписки.
Так и лежала у меня эта тетрадь с перебеленными пером заметками почти тридцать лет среди других тетрадей, пока по встретившейся, как говорится, надобности я не стал ее перелистывать и не напал на эти страницы. И мне показалось решительно невозможным делать в них теперь какие-либо исправления или дополнения, кроме необходимых подстрочных примечаний. Если эти заметки имеют какую-либо ценность, то лишь как занесенные в тетрадь для себя тогда [1] , по свежей памяти.
Естественно, что разнообразные и глубочайшие впечатления Великой Отечественной войны отстранили и заслонили собой и для писателей и для читателей память трехмесячной зимней кампании в Финляндии. Но и «на той войне незнаменитой», при всей несоизмеримости ее масштабов и исторического значения с Великой войной, были наши люди. И память их не может подлежать забвению. Воину не дано выбирать ни времени, ни места, где ему придется пролить свою кровь или сложить голову за родину — под Сталинградом или где-нибудь под Киркой-Муолой.
Мне уже приходилось говорить, что в моей газетной работе в первый год войны, до того как у меня пошел «Василий Теркин», мне больше удовлетворения, чем стихи, доставляла проза — очерки о героях боев, написанные на основе личных бесед с людьми фронта. Мы