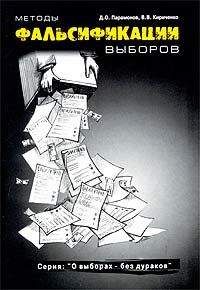Что- то, безусловно, в таких поездках от русского человека отлетает -чтобы в этом убедиться, достаточно даже беглого взгляда со стороны. Например, русский всегда с безошибочной брезгливостью выделяет своих соотечественников в европейской толпе, даже не замечая, что тем самым он совершает акт невинного, но все же предательства. Это почти рефлекс - шарахаться от русской речи хоть на мосту Бир-Хаким, хоть в Кенсингтоне. Русский человек потому так безошибочно узнает своих, что норовит сам на себя посмотреть взглядом европейца. Позиция стороннего наблюдателя за самим собой, разумеется, не делает его неотъемлемой частью ЕС - собственно европейцам до русских в толпе дела, как правило, нет. Подобная позиция, по совести говоря, не делает ему большой чести, зато оставляет его в приподнятом одиночестве - по то сторону гостей и хозяев. В приподнятом одиночестве европейские города чувствуешь уже совершенно как свои.
На этом месте я бы уже предпочел отказаться от совершенно невыносимого в своей безликости словосочетания «русский человек в Европе» и перейти для упрощения коммуникации на личности - то есть на себя самого.
Для поколения, рожденного в первой половине семидесятых и приобретшего более-менее устойчивую привычку наведываться в Европу только во второй половине девяностых, та сторона уже знаменовала собой все, что угодно, но только не свободу. Может быть, первый раз в истории (чуть не со времен Эллады, которая когда-то осознала себя свободным Западом в противовес деспотичному персидскому Востоку) Европа не ассоциировалась напрямую со свободой. Свобода (по крайней мере, на взгляд тогдашнего школьника) как раз бушевала по эту сторону - в период с 87-го по 91-й, и в общем, даже успела слегка утомить. Европа в те годы вообще была как-то в тени, и ей скорее отводилась роль рассадника стерильного изобилия - тому весьма способствовали популярные жлобские фантазии Жванецкого на тему вымытого с мылом асфальта - почему-то этот образ вселял в меня скорее отвращение.
Я обратил внимание на вздорный фокус с весами, поскольку всегда испытывал определенную уверенность в том, что, пересекая европейскую границу, я не столько нечто приобретаю, сколько оставляю за бортом. Некий зазор между собой здешним и собой тамошним определенно существует. Когда на таможне меня спрашивают о цели поездки, я всякий раз теряюсь, потому что начинаю в этот момент думать скорее о причинах отъезда. А они, в общем, почти всегда одни и те же - избавиться на некоторое время от того самого, чего не показывают весы. В Европе тебя в некотором смысле становится меньше - подобно тому, как от счастья люди глупеют, как говорил, кажется, Ален де Боттон. Существует представление (уничижительное и лестное одновременно), что европейский человек - существо более развитое, зато русский - более глубокое. Если воспользоваться этой столь же сомнительной, сколь и несгибаемой схемой, то можно предположить, что именно эту чертову «глубину» и не показывают весы.
Во времена моей учебы в Московском государственном университете существовала примечательная негоция - можно было поехать собирать клубнику на какие-то английские огороды. За это даже платили - десять, что ли, фунтов в день, не помню. Слова «агротуризм» здесь тогда еще не существовало. Для студента, измученного напитками «Оригинальный» и «Лето Осетии», книгами Селина, идеями Дугина, самопальными наркотиками, танками 93-го года, непроницаемой нищетой и прочими прелестями тогдашней московской жизни, это был удивительный - не прорыв, не побег, но перевод разговора в другое русло. Не столь глубокое, пожалуйста. При таких перспективах меньше всего хотелось глобальных разговоров о месте русского человека в Европе etc. Все эти разговорчики, суть которых, в общем-то, если разобраться, всегда сводилась к сакраментальному «можно ли воровать в гостях серебряные ложки?», словно бы специально норовили испортить нам всю малину, точнее, клубнику.
Проблема здешних мест для нас тогда заключалась в отсутствии устойчивых частностей: все кругом было слишком важным и слишком изменчивым. Один государственный строй менялся на другой с той же поспешностью, с какой по-своему очаровательный напиток «Лето Осетии» навсегда покидал прилавки университетского гастронома, уступая место жестокому, как денатурат, «Оригинальному» - и непонятно еще, что было важнее. Все было важнее. Выезд в Европу - это был, казалось, своеобразный шаг от неустойчивого катехизиса к незыблемому меню, от интенсивности шатких переживаний к высшей буколической размеренности. От ощущения того, что дух веет, где хочет (с акцентом на последние два слова), к надежде на то, что дух веет, где хочет (с акцентом на первые два слова). Чем больше превозносилась тамошняя вольная манера одежды или беспорядочное разнообразие форм высказывания, тем больше возникало ощущение некой сложноорганизованной системы, в которой, казалось, можно с легкостью затеряться, не создавая при этом никому проблем.
Разумеется, это не был вопрос «отдыха» - если это и можно назвать отдыхом, то в первую очередь от самого себя. Вообще, блуждания по европейским городам - это не отдых, это, пользуясь великолепным выражением Честертона, сказанным им по другому поводу, - «насыщенная праздность».
Почему, например, недавно вышедшая книжка Алексея Зимина «Единицы условности», в значительной степени посвященная как раз похождениям автора в Европе, оставляет ощущение, что в жизни современного русского человека нет иных огорчений, кроме пережаренного на гриле осьминога? Откуда это поэтическое упоение съестным пустяком?
Да все оттуда же. Все потому, что Зимин, как и я, тоже в свое время настраивался на сбор клубники в непосредственной близости от Лондона. И тоже был утомлен и напитком «Лето Осетии», и прочими прелестями тогдашней московской жизни. И Европа, надо полагать, тоже кажется ему переводом разговора в другое, несколько менее глубокое, но чуть более ответственное русло. И пустяк торжествует над громадьем не из вящей буржуазности, но скорее из элементарной опаски спугнуть такое приятное и все еще малознакомое ощущение Европы.
Опаска всегда сохраняет - спугнуть-то, как мы уже поняли, несложно. Ведь ни меня, ни Зимина на прополку земляничных полян тогда не взяли. Просто вернули нам анкеты.
Без объяснения причин.
Людмила Сырникова
Купол Фостера
Виды на Берлин
- Когда мне предложили немецкое гражданство, я отказался, - говорил мой берлинский знакомый, выходя вместе со мной из вагона на станции метро Friedrichstrasse. - Осторожно, двери закрываются.
Немецкие законы не признают двойного гражданства и даже наличия двух гражданств: вступая в гражданство Германии, вы должны лишиться всех имеющихся гражданств, если таковые у вас есть. А с российским подданством легче летать в Москву: консульский сбор за российскую визу составляет что-то около 350 евро, если не ошибаюсь. С нашим паспортом летать не так накладно.
Мы переходим мост через Шпрее и, косясь на уродливый памятник Бертольду Брехту возле театрального центра его имени, бредем по блестящему от чистоты тротуару, залитому весенним злым солнцем. Нам надо дойти до рейхстага. Мой спутник хвастается, что в силу вида на жительство может беспрепятственно гулять по рейхстагу, хотя посещать заседания Бундестага дозволяется лишь гражданам Федеративной Республики Германия. Мы подходим к рейхстагу со спины, огибая аккуратно припаркованные туристические автобусы. Пройдя вдоль стены, мы выходим на пустынный и необъятный плац - именно по нему маршировали полки перед оком кинокамеры Лени Рифеншталь. Далеко впереди - кромка чахлой, но аккуратной травы и асфальтовой дороги. Уродливый титанический портик рейхстага украшала крупная надпись: DEM DEUTSCHEN VOLKE («НЕМЕЦКОМУ НАРОДУ»). Вереница туристов на лестнице. Мы встали в общую очередь. Как обычно, большинство - японцы, с фотоаппаратами наперевес. Что они собираются фотографировать? - подумала я. - Наверное, виды Берлина. Для туристов в рейхстаге предусмотрен особый аттракцион - подъем на специальном лифте на крышу. Охрана у входа - бодрые старички за семьдесят. Они говорят сразу на нескольких европейских языках. «Руски!» - говорят они, повелительным жестом указывая на короткую брошюру о рейхстаге на русском языке. Я вспоминаю читанную давно, еще в перестройку, статью в «Литературке» о политическом советском фотомонтаже: у кого-то из сержантов, возможно, даже у сержанта Кантария, на руке было две пары часов, и пришлось срочно ретушировать, потому что именно эта рука держала древко красного советского флага, водружая его над поверженной цитаделью гитлеризма. Мы оказываемся внутри. Пройти к лифту можно по специально огороженной дорожке. Все идут гуськом, затылок в затылок, стараясь не смотреть по сторонам. Семидесятилетние охранники стоят в таких позах, будто глаза у них на подбородке. Мы поднимаемся на крышу. Серое низкое небо нависает над нами. Японцы в явной растерянности: фотографировать нечего. Со всех четырех сторон по краям крыши парапет почти с человеческий рост. Фотографировать имеет смысл разве что небо. Красно-черно-желтый флаг полощется на ветру. И тут минутное замешательство японцев проходит. Они понимают, что является центром композиции. Не флаг и не небо, а купол. Новый купол рейхстага, творение Нормана Фостера. Прозрачный, с винтовой блестящей лестницей, сделанной будто из фольги. По лестнице, скользя, бегают японские дети. Фостер стремился сделать купол невесомым, летящим, как бы опровергающим всю эту тяжеловесную прусскую конструкцию и мрачную историю. Но вместо опровержения вышла пустота, стекляшка. Я поворачиваюсь и вижу страшную картину: у одинокой девушки начинается рвота - возможно, она боится высоты, и у нее кружится голова. Японцы берут ее под руки и ведут к лифту. Мы тоже двигаемся к выходу.