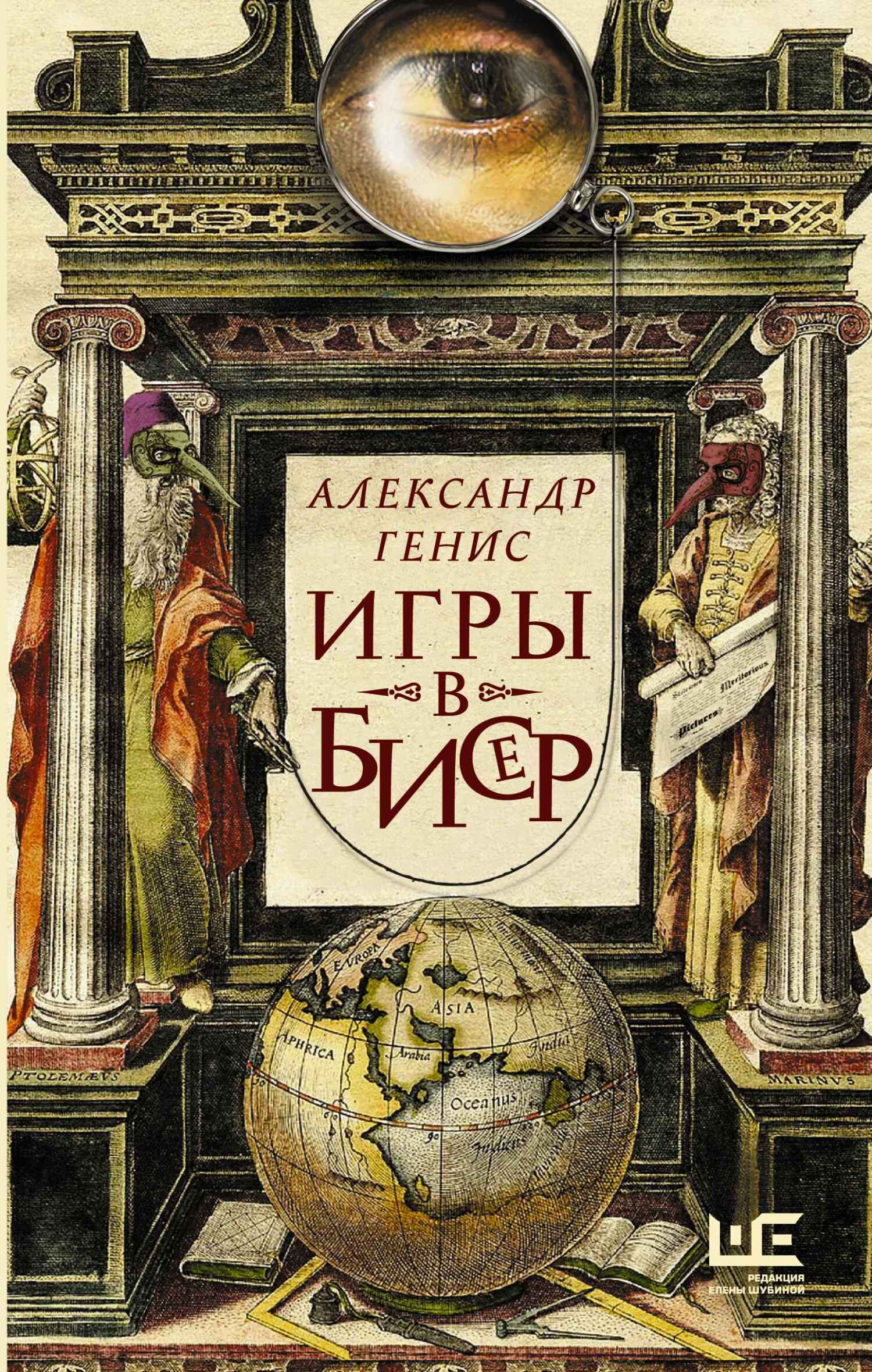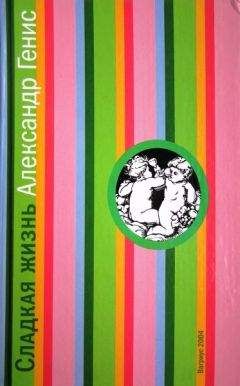практику. Это выжимание истины из себя, потому что больше неоткуда:
“…если б можно было, прибавив одно слово, отвернуться в спокойном сознании, что это слово целиком наполнено тобою”.
Не в силах найти такое слово, он вынужден заменять его притчами, которые перекладывают толкование на плечи читателей, даже тех, которых не было. Герой и автор тут сливаются, но не до конца, потому что Кафка все время подглядывает за собой из-за собственного плеча. Как и каждый писатель, который идет тем же путем, но не так далеко, глубоко и безнадежно. Боясь не вернуться обратно, Кафка спрашивал у своего дневника: что “если отверстие, через которое ты впадешь в мир, станет слишком маленьким или совсем закроется?”
Этот страх себя подспудно владел и Чуковским. Всю жизнь, как и Кафка, страдая бессонницей, он объяснял, в чем ее кошмар: “В неспанье ужасно то, что остаешься в собственном обществе дольше, чем тебе это надо. Страшно надоедаешь себе – и отсюда тяга к смерти: задушить этого постылого собеседника, затуманить, погасить”.
В Китае, о чем я вспоминаю каждый раз, просыпаясь в четыре утра, предрассветный час был отведен времени Инь. Считалось, что именно тогда завязывается сюжет нового дня, за которым нельзя, как за любым зачатием, подсматривать.
Но именно этим занимался в своем дневнике Кафка. Всматриваясь в ночную сторону бытия намного пристальнее, чем в дневную, он пытался разглядеть причитающееся ему – сугубо персональное – место в жизни и не находил его. “Что у меня общего с евреями? У меня даже с самим собой мало общего”.
6. Мнемозина
Когда наконец я реализовал свою детскую мечту и отправился в Элладу, меня сопровождал советский разговорник и греческий путеводитель. Первый оказался бесполезным. В нем мне предлагали спрашивать в магазинах, есть ли у них сосиски, а у прохожих – как пройти в ЦК греческой компартии. Зато со вторым мне повезло. Составленный во II веке уже нашей эры, он был полон антикварного энтузиазма, одушевлявшего любые руины.
Среди прочего Павсаний открыл мне секрет воспоминаний: сперва забыть и лишь потом вспомнить. Прежде чем паломник получит прорицание оракула в пещере Трофония, он должен напиться воды из источника Леты, “чтобы он забыл о всех бывших у него до тех пор заботах и волнениях, а из другого он таким же образом опять пьет воду Мнемозины”, чтобы запомнить все, что увидит в пещере. Другими словами, ритуал требовал забыть, чтобы освежить вкусовые сосочки памяти ввиду предстоящего ей пира.
Этот рецепт годится для мемуаров, ибо они стирают сегодняшний день, не замахиваются на будущее и наслаждаются любым прошлым уже потому, что оно уже прошло, стало безопасным и принарядившимся.
Чаще других им наслаждался Набоков, обладавший, по его же признанию, “почти патологической остротой памяти”. Упражнение ее было самостоятельным наслаждением для Набокова, праздником, никуда не ведущим ни читателя, ни автора. Река его жизни текла вспять. И это лучшее, что с ней, жизнью, могло случиться. Воспоминание превращало пережитое в экспонат и спасало его от самого страшного врага – времени. “Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, летнего тепла затопляет память. Эта ясная явь претворяет настоящее в призрак. <…> Все так, как должно быть, никто никогда не изменится, никто никогда не умрет”.
Застыв, как в холодце, в прошлом, Набоков ведет в настоящем зыбкое, неуверенное в себе существование. Описывая столбики балюстрады, между которыми он пролезал ребенком, Набоков с усмешкой замечает себя сегодняшнего: “Ныне и призрак мой, пожалуй бы, застрял”.
Его мемуарная проза безоценочна и самодостаточна. Набокову не важно, что вспоминать, ибо все восстановленное обладает равным достоинством. “Клозеты были отдельно от ванн, самый старый из них был довольно роскошен, но и угрюм, со своей благородной деревянной отделкой”. Читателю здесь полагается быть безмолвным свидетелем изъятия мемориальных объектов из Леты и подношение их Мнемозине.
Она была дочерью Земли и Неба (Геи и Урана). Унаследовав от родителей двойственную природу, Мнемозина сделала возможным все искусства, включая предельно эгоцентрическую прозу Набокова. Делясь памятью, он создавал картины, достоверность которых никто не мог проверить. И в этом тщательно обставленном им мире мы чувствуем себя чужими, словно в музее на школьной экскурсии. Набокову хватало одной вдохновившей его читательницы, с которой расплачивался бесконечными дарами этот “гений тотальной памяти”.
Мнемозину я видел в Делавере на картине Данте Россетти, которая украшает лучшую в Америке коллекцию прерафаэлитов. Художнику позировала очаровательная дочь конюха Джейн Моррис. Став музой в этом кругу, она помимо рафинированного английского овладела французским с итальянским, научилась играть на фортепиано и послужила прототипом Элизы Дулитл в “Пигмалионе” Бернарда Шоу.
7. Маргиналии
Мой брат, не склонный к рефлексии, за что я обычно называю его “спортивным”, однажды бросил замечание, над которым я был вынужден надолго задуматься.
– Лучший день, – сказал он, – тот, что мы прожили не заметив.
– ?! – возмутился я.
– Представь себе, что ты умираешь от рака.
Я представил, почти согласился, но все же уперся. Каким бы ни был мой день, теперь я больше всего боюсь потерять его навсегда. Но этот страх пришел лишь тогда, когда я перестал торопить время. Раньше, будучи младше всех, с кем дружил и кому завидовал, я надеялся их догнать, чтобы с ними сравняться. Но мне это никак не удавалось, и я утешал себя апорией Зенона, сравнивая себя то с Ахиллом, то с черепахой, но никогда с собой.
Кончилось тем, что я и впрямь обогнал почти всех, кого любил. Они умерли, а я стал считать дни самой твердой валютой. Боясь ее разменять на пустяки и тряпки, я сочинял изощренное расписание, взвешивая на весах пользы и разума утраченное время. А чтобы оно не утекло без следа, завел двойную бухгалтерию в дневнике, который назвал, как все долговечное, по латыни: marginalia. Затейливое название подразумевало, что я буду его вести на полях прожитого с той же строгостью, с какой школьные учителя делились там мнением о моих незрелых грехах.
Но тут же встал острый вопрос: что заслуживает себе место в моих маргиналиях? Первым я отбросил интимное и мимолетное, считая легкомысленным тратить дневник на личную жизнь. Вместо этого в ход пошли интеллектуальные радости, прежде всего цитаты из свежепрочитанного. Я гордился ими, будто сам был и охотником, и добычей. Если Эйзенштейн считал цитаты кирпичами собственных концепций, то мне и подавно не стоило их бояться. За то, что они будили попутные мысли, я назначил цитаты отложенными на посев зернами, которые Гёте завещал пускать на помол словесности.
Я с азартом потрошил классиков, и маргиналии росли, но не пухли. Они прятались в