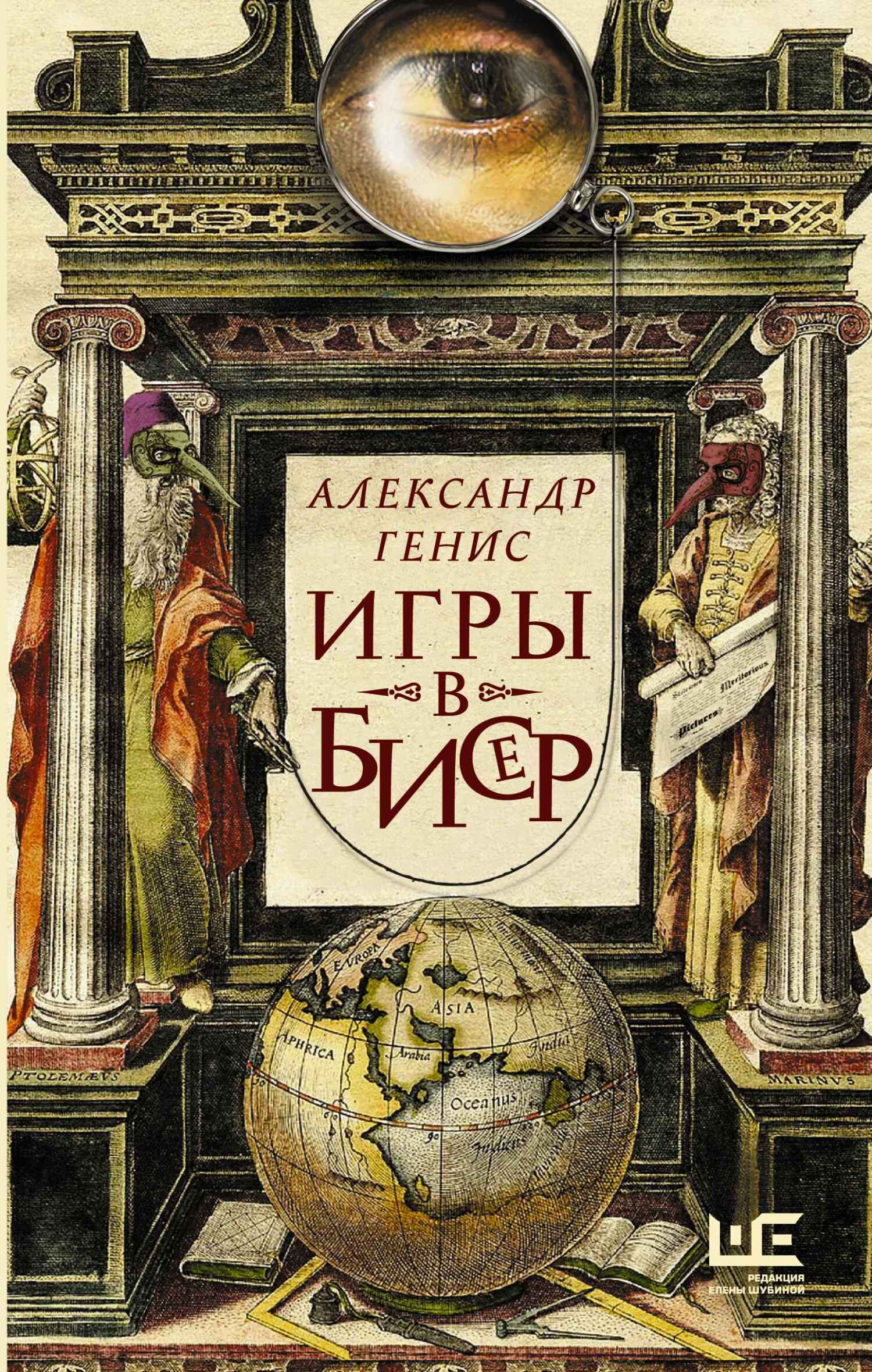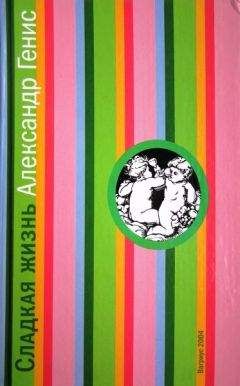сбивающая с толку одного собеседника и роковая для другого. Например, такая:
“– Говорят с Таллинна, – заявил Быковер. <…>
В ответ прозвучало:
– «Дорогой товарищ Сталин! Свободолюбивый народ Болгарии приветствует вас»”.
В рассказе цитата со дна языка служит отправной точкой конфликта – между фальшью и искренностью. Довлатов так искусно изображает все оттенки лжи, что мы не сразу замечаем, как он не щадит и себя. Фальшива не только штампованная речь редактора Туронка, но – пусть и в другой степени – диссидентская риторика автора: “Газетчик искренне говорит не то, что думает”.
При этом автор еще и подсматривает сам за собой, хвастаясь эффектными сравнениями: “Я чувствовал себя неловко, прямо дохлый кит в бассейне. Лошадь в собачьей конуре. Я помедлил, записывая эти метафоры”.
Лживы и его любовные отношения с Мариной, которая воплощает иные, но столь же общепринятые штампы, как джемпер (намек на Хемингуэя) на авторе: “Включила проигрыватель. Естественно – Вивальди. Давно ассоциируется с выпивкой…”
Характерно, что кульминация фальши, завершившаяся рвотой, наступает не тогда, когда автор читает надгробную речь (“Товарищи! Как я завидую Ильвесу!”), а после того, как Марина показывает ему отрывок из своего дневника: “Он был праздником моего тела и гостем моей души”. Это как раз та квинтэссенция пошлости, которая, если не мучиться ветвистыми определениями Набокова, являет соединение тривиальности и претенциозности.
Постоянная ложь порождает перманентное двоемыслие, которое материализуется в двойниках. Герои двоятся и перепутываются. Автора все, включая любовницу, принимают за отсутствующего Шаблинского, Ильвеса-младшего – за Ильвеса-старшего, одного покойника – за другого (“Действительно не Ильвес. Но сходство есть”).
Накопление абсурда ведет рассказ к развязке, которая, как это бывает в удачных литературных финалах, одновременно неизбежна и неожиданна.
4. Гроб
Предельно незаметно в тексте появляется смерть. Легкой тенью она сопровождает героев по дороге к концу:
“– Мы у цели, – сказал Быковер.
В голосе его зазвучала нота бренности жизни”.
Кладбище Довлатов изображает романтически, как “Остров мертвых” Бёклина: “Все здесь отвечало идее бессмертия и покоя. Руинами древней крепости стояли холмы. В отдалении рокотало невидимое море”.
Смена тона исподтишка готовит нас к перелому повествования, о котором автор предупреждал еще в его начале: “На фоне чьей-то смерти любое движение кажется безнравственным”. Это значит, что в присутствии смерти ложь тоже умирает. Ради этого автор отождествляет себя с лежащим в гробу покойником: “Я почувствовал удушливый запах цветов и хвои. Борта неуютного ложа давили мне на плечи. Опавшие лепестки щекотали сложенные на груди руки”.
Только теперь, уложив себя на место трупа, он может принять “чью-то смерть” как свою и задать наконец настоящие вопросы. Они не имеют отношения к элементарному конфликту лжи и правды. Фальшивому миру нашей повседневности противостоит не та правда, что скрывают власти, а не имеющая к ней отношения истина. Мы ничего о ней не знаем, но, встав на край могилы, заслужили право спрашивать “о преодолении смерти и душевного горя. О законах бытия, которые родились в глубине тысячелетий и проживут до угасания солнца…”
Эти слова звучат беспомощно, они словно демонстрируют неспособность языка общаться со смертью и обращаться к ней. Но Довлатов и не собирался открыть нечто новое в этой вечной теме. Для него важно было привести рассказчика на партийные похороны и вырвать его из паутины предопределенности, сказать неуместное и вызвать скандал – не с руководством, а с бытием, которое уж точно ни на чьей стороне.
Смерть, заимствуя модное слово, обнуляет жизнь, и писателю этим грех не воспользоваться.
5. Могила
Прочитав впервые этот рассказ в рукописи, я повел себя глупо. Словесная ткань, бесспорно, восхищала. Юмор изящно прятался внутри текста, который сам себя не слышит: “Отец и дед его боролись против эстонского самодержавия”. Каждый персонаж создавался беглыми, как в довлатовских шаржах, чертами (“У редактора бежевое младенческое лицо, широкая поясница и детская фамилия – Туронок”).
Короче, это был тот Довлатов, в котором все не чаяли души – от Бродского до обитателей Брайтон-Бич. Но концовка приводила меня в ужас. Она казалась переклеенной из книги другого автора. Не поняв и не приняв последнюю страницу, я уговаривал Сергея просто выбросить казавшееся неуместным “жалкое место”. Довлатов не обижался, не слушался и ничего не объяснял. Я сам понял, но только тогда, когда оказался в положении его героя – на краю могилы.
В день похорон Довлатова, первых в моей жизни, я вспомнил упомянутые в рассказе детали. И надетый на покойника галстук, которых Сергей никогда не носил. И тяжелую ношу, с которой мы едва справлялись вшестером. И могилу, где “стояла вода и белели перерубленные корни”.
6. Атлантида
Смерть Бродского описывает абзац из Льва Лосева в его бесценной биографии поэта. Он умер в ночь на 28 января 1996 года в Бруклине, в своем кабинете. “На письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга – двуязычное издание греческих эпиграмм. В вестернах, любимых им за «мгновенную справедливость», о такой смерти говорят одобрительно: «He died with his boots on» («Умер в сапогах»). Сердце, по мнению медиков, остановилось внезапно”.
К этому, собственно, нечего добавить, но бесконечна другая тема: “Смерть у Бродского”. Тот же Лосев писал: “Если для его любимых стоиков философия была упражнением в умирании, то для него таким упражнением была поэзия”.
Что касается загробной жизни, то я никогда бы не решился задать Бродскому такой вопрос, считая его безумно интимным. Зато я об этом спросил Лосева, с которым дружил и меньше стеснялся.
– Бродский, – сказал он, – был, как все мы, агностиком, у него были подробные представления о метафизических проблемах, но это не значит, что он как-то представлял себе собственную загробную жизнь.
Тут можно вспомнить подходящий фрагмент из “Записных книжек” Чехова: “Между «есть бог» и «нет бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец”. Вот на этом поле и разворачивалось все творчество Бродского.
Его последнее публичное выступление не предвещало ничего хорошего. Он выглядел усталым, предупредил, что чтение продлится ровно час, заранее отказался отвечать на вопросы, принимать в подарок чужие книги и подписывать свои (“собирать автографы – глупейшее занятие, к тому же я их столько раздал, что они ничего не стоят”).
Читал он только новые стихи, и понять их было трудно. На слух поздний Бродский воспринимался с таким трудом, что я и не пытался. Вместо этого я записывал “на потом” названия стихотворений, которые обещали больше других. Это оказалось правдой, когда мне пришлось читать последний сборник Бродского много раз и с карандашом. Элиот только так и советовал обращаться с поэзией. Смысл в ней,