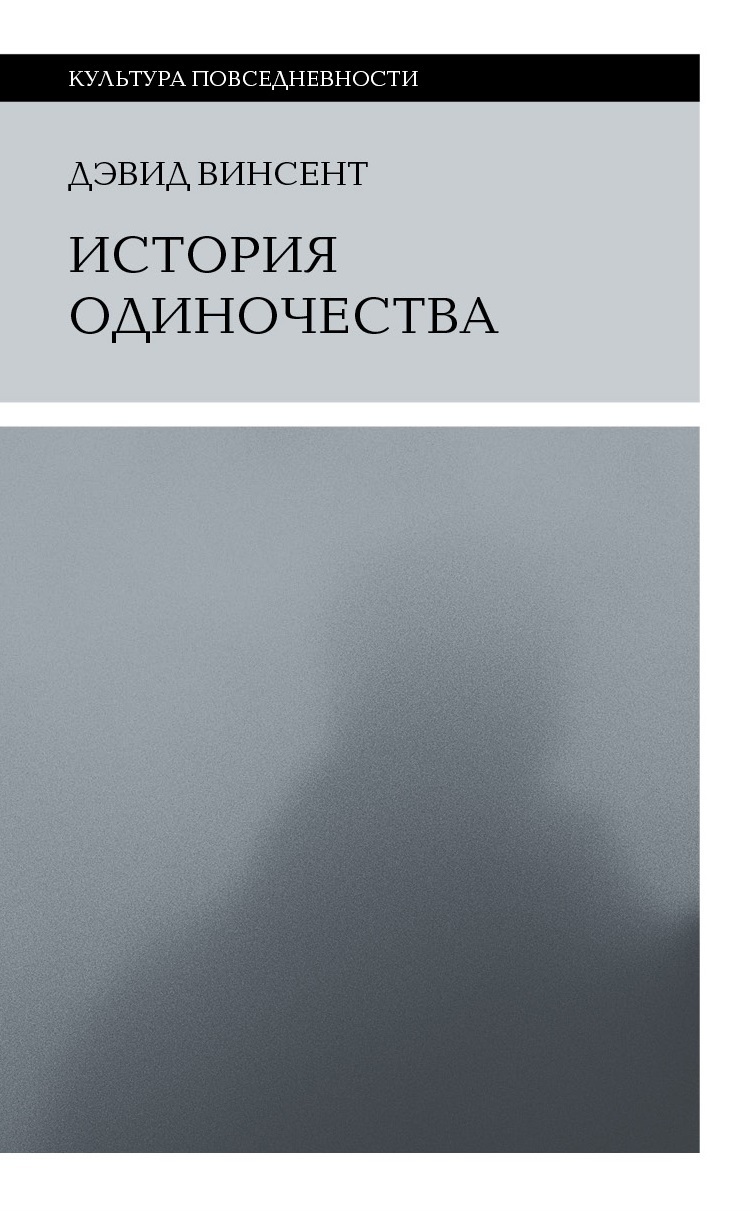и рассказывала о нем, в частности, следующее:
Меня держали в одной комнате три недели, с четырех утра до девяти вечера, и не разрешали выходить ни с какой целью. Еду мне приносили. В комнате было место только для стола и стула, но ни того ни другого там не было, и мне приходилось лежать на полу. Там было окно, но оно было закрыто, и я все время находилась в темноте [553].
Комната из Нагорной проповеди служила теперь куда более зловещей цели. В 1865 году Кэтрин Селби перелезла через стену Колвичского монастыря, и в последовавших за этим дискуссиях утверждалось, что для строительства «едва освещенных подземных помещений» подозрительного назначения был нанят местный плотник. Четыре года спустя в обществе возникла новая затяжная дискуссия, когда Сюзанна Мария Саурин подала в суд на мать-настоятельницу монастыря вблизи Халла за незаконное заточение после разлада в отношениях внутри общины. Утверждалось, что «в течение последних семи месяцев своего пребывания в монастыре, после того как она упорно отказывалась уходить, она была приговорена к полному молчанию, ограничена одноместной комнатой и отправлена в кровать, на которой недоставало одеял» [554]. В глазах «Таймс» этот опыт был вдвойне гендерным. Закрытое сообщество женщин было уникальным образом подвержено несправедливым властным отношениям. Сюзанна Саурин страдала «в течение долгого времени от целого ряда трудностей, унижений и оскорблений, а также от досадных неудобств, которые могут причинять только женщины и которые, следует признать, только женщины и могут терпеть» [555]. «Сбежавшая монахиня», спасшаяся из запертой камеры и обнесенного стеной монастыря, чтобы рассказать миру свою историю, стала признанным литературным жанром. Еще в 1880-х годах международной знаменитостью стала бывшая американская монахиня Эдит О’Горман, ездившая с выступлениями о своем заточении по Северной Америке, Англии и колониям, а также вступившая в шумный конфликт со «спасенной монахиней» Эллен Голдинг [556]. На обложке вышедшего в 1913 году английского издания истории О’Горман изображено лицо несчастной монахини, выглядывающей через зарешеченное окошко в двери [557]. Крайность этой традиции представляла фигура «замурованной монахини», приговоренной к смерти в заложенной кирпичом камере за нарушение правил монастыря [558].
Если учесть, что во второй половине XIX века в Британии было основано множество общин, в основном избегавших внешних проверок и юридического вмешательства, о тамошних возможных злоупотреблениях нельзя судить с уверенностью. Вообще говоря, в небольших замкнутых сообществах напряженность и уровень конфликтов были, скорее всего, невелики. Но, по едкому замечанию Флоренс Найтингейл, они были куда более распространены в хваленой домашней жизни. «Я знала много монастырей, – писала она, – и о мелкой, мучительной тирании, которая должна была там происходить, но я не знаю ничего подобного мелкой и мучительной тирании в доброй английской семье» [559]. В значительной степени одержимость одинокими кающимися, вольно или невольно заключенными в своих кельях, была скорее функцией мифа, чем реальности. Она проистекала из давнего напряжения между затворническим (одиночным) и общежительным (общинным) монашеством. Этимология слова «монах» – monachus, или одиночный, – породила образ отшельника-аскета, отвергшего всякую компанию во имя стремления к общению с Богом [560]. Но как бы ни прославлялись отцы-пустынники ранней Церковью, создание постоянных общин, особенно в начале второго тысячелетия, требовало баланса между двумя этими тенденциями. Индивидуальное созерцание, обособленное не только от общества в целом, но и от остальных членов ордена, оставалось важным требованием. В своей крайней форме оно рассматривалось как по сути своей нестабильное состояние, до опасного далекое от всех форм того, что являлось теперь высоко структурированной церковной иерархией. Своеобразной золотой серединой между этими двумя формами свидетельствования было решение, найденное в основополагающем уставе святого Бернарда [561]. Монахи подолгу молились в своих кельях, но в течение дня собирались вместе на семь литургических богослужений, а кроме того, признавали власть главы общины. Различные ордена располагались в определенных точках затворнически-общежительного континуума, но ни один из них не одобрял полного ухода в себя, будь то в келье или в какой-нибудь дикой местности.
Возрождение монашества в урбанизирующейся и индустриализирующейся стране заставило пересмотреть баланс между одиночным и социальным. Джон Генри Ньюман, который, будучи ведущим членом Оксфордского движения, много сделал для пробуждения в англиканцах интереса к религиозным обществам, получил возможность создать собственное учреждение, когда присоединился к католической церкви [562]. Для своей общины в Бирмингеме он выбрал модель, основанную на «оратории» святого Филиппа Нери [563]. Там было место для частной молитвы, но больше всего община напоминала типичный оксбриджский колледж: образованные джентльмены могли изучать и обсуждать католическое богословие, а в свободное время заниматься пастырской работой в городе. Аналогичный выбор вставал и перед новыми сестринскими общинами [564]. Так, в общине Парк-Холл велись бурные споры о том, на чем следует сделать акцент: на жизни в созерцании или же на добрых делах во благо общества. Большинство последующих орденов предусматривали в своем распорядке дня как индивидуальную молитву в кельях, где женщины спали, так и общинное богослужение, однако на практике их участие в облегчении лишений и страданий во внешнем мире оставляло мало времени и сил для одиночного созерцания или хотя бы уединенного чтения. «Другим абсолютным правилом идеального сестричества, – писала Дина Крейк, – должна быть работа. В нашем XIX веке мы не можем вернуться к средневековым идеям об экстатическом мистицизме или телесном покаянии» [565]. Общая закономерность состояла в том, что обеты бедности, целомудрия и послушания дополнялись приверженностью служению, хотя некоторые католические учреждения по-прежнему относились с подозрением к любой деятельности, отвлекающей от соблюдения религиозных обрядов [566].
С небольшим преувеличением один сочувствующий автор писал о «рукопашной схватке с бедностью, преступностью и болезнями, которой английские сестры посвятили себя в последние тридцать лет» [567]. Они должны были обучаться все более серьезным профессиональным навыкам в таких областях, как медсестринское дело и преподавание, и применять их без какого-либо заработка, лишь за почти скудное, пусть и регулярное, питание. Не одиночество, а истощение было главным условием их жизни. В качестве компенсации они получали ощущение социальной и духовной цели и принадлежность к сообществу женщин, дающему возможности и оказывающему поддержку. Здесь трудно подвести точный баланс. В случае с девушками из семей среднего класса, составлявшими большинство послушниц, оставленные ими матери и сестры, вероятно, имели в повседневной жизни больше возможностей для уединения, как это было показано в предыдущей главе. Государство в конце концов вмешалось – но не для того, чтобы проверять или дисциплинировать, а чтобы со временем создать светские профессии, связанные с заботой о других. Это позволило женщинам приобретать и применять профессиональные навыки без необходимости уходить