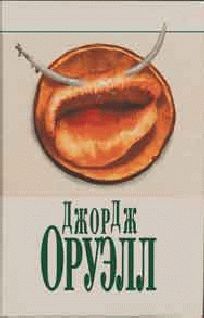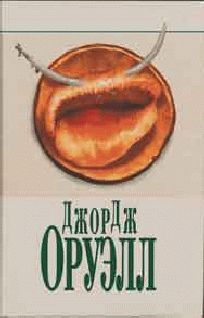Я не совсем понял, что натворил, но тем неизгладимее запечатлелась во мне эта первая встреча с враждебной массой. Впоследствии я всю войну, до 1916 года в Вене и потом в Цюрихе, был настроен проанглийски. Но и побои не прошли даром: до тех пор пока мы жили в Вене, я остерегался невзначай выдать свое умонастроение. Произносить английские слова вне дома нам было строжайше запрещено. Я соблюдал этот запрет, но с тем большим рвением читал свои английские книги.
Четвертый класс народной школы — а в Вене я начал с третьего — пришелся уже на годы войны, и все мои воспоминания связаны с войной. Нам выдали желтую тетрадь с песнями, так или иначе перекликающимися с темой войны. Первым шел гимн кайзеру, который мы исполняли ежедневно в начале и в конце занятий. Две песни из желтой тетради мне понравились: «Заря, заря, светишь ты мне, молодому, в последний раз», а моя любимая начиналась словами: «Там на лугу — две галки, не больше»[145], и дальше, кажется: «Знать, умру я во вражеской Польше». Много чего мы спели тогда из желтого песенника, но песни эти все же были куда пристойнее отвратительных, пропитанных ненавистью рифмовок, которые проникали и к нам, младшим школьникам: «Сербия, ты помербия», «Один пистолет — русского нет!», «Один байонет француза нет!», «Один пинок — англичанин утек!» Когда я в первый и последний раз принес такую рифмовку домой и сказал Фанни: «Один пистолет — русского нет!» — она тотчас пожаловалась матери. Может быть, в ней заговорила чешская чувствительность, ибо патриоткой ее никак не назовешь, да и с нами, детьми, она никогда не пела военных песен, которые я разучивал в школе. А может, она просто была нормальным человеком, для которого рифмовка «Один пистолет — русского нет!» в устах девятилетнего ребенка звучала особенно омерзительно. Во всяком случае, это так сильно задело ее, что она не одернула меня, а молча пошла к матери и заявила, что больше служить у нас не может, потому как ей приходится выслушивать подобные вещи от детей. Мать, оставшись со мной наедине, очень сурово спросила, что я хотел сказать этой рифмовкой. Я ответил: ничего. Мальчишки в школе твердят их все время, а я терпеть их не могу. Я не лгал, поскольку, как уже говорил, был настроен проанглийски. «Так что же ты тогда болтаешь чепуху вслед за ними?! Фанни слушать это неприятно. Ее оскорбляет, когда ты говоришь такую мерзость. Русский такой же человек, как ты и я. Моей лучшей подругой в Рущуке была русская, Ольга. Ты уже забыл ее». Да, я забыл ее, а тут вдруг вспомнил, как часто слышал это имя. Мать отчитала меня всего один раз, но этого было достаточно. Она так сильно выразила свое недовольство, что я не только не повторял больше этих рифмовок, но и испытывал отвращение к любым злобным милитаристским призывам, которые позднее слышал в школе, а слышал я их ежедневно. Конечно, далеко не все болтали эту гадость, напротив, таких было мало, но зато они и твердили ее беспрестанно. Может быть, чувствуя себя в меньшинстве, они старались таким образом самоутвердиться.
Мне минуло двенадцать лет, когда я страстно увлекся историей освободительных войн греков[146], и тот же 1917 год стал годом русской революции. О том, что Ленин жил в Цюрихе, говорили еще до того, как он покинул его в запломбированном вагоне. Мать, в которой горела незатухающая ненависть к войне, пристально следила за всем, что могло бы положить ей конец. Она ни с кем не поддерживала политических связей, но в Цюрих съезжались из разных стран противники войны всех направлений. Когда мы как-то проходили мимо одной кофейни, она показала мне на огромный череп человека, сидевшего у окна, перед ним на столе лежала высокая кипа газет, одну из которых, крепко сжав, он поднес близко к глазам. Внезапно он вскинул голову и, повернувшись к сидящему рядом мужчине, стал что-то энергично ему доказывать. Мать сказала: «Посмотри на него повнимательнее. Это Ленин. Ты еще услышишь о нем». Мы остановились, она немного смутилась оттого, что вот так стоит и смотрит в упор на человека (обычно она пресекала такую бестактность с моей стороны), но внезапность сделанного им движения заставила ее замереть на месте, передав ей часть энергии от резкого разворота к собеседнику. Я же дивился гриве черных вьющихся волос у другого мужчины, которая составляла резкий контраст с оголенностью черепа сидящего рядом Ленина. Но больше всего меня поразила неподвижность матери. Внезапно она сказала: «Пошли, что мы тут встали» и увлекла меня за собой.
Спустя несколько месяцев она рассказала мне о возвращении Ленина в Россию, и я стал понимать, что речь идет о чем-то очень важном. Русским надоела бойня, убеждала она, все сыты ею по горло, поэтому с согласия правительств или вопреки им, но скоро этому придет конец. Она никогда не называла войну иначе чем «бойня». С тех пор как мы переехали в Цюрих, она говорила об этом открыто, в Вене же ей приходилось себя сдерживать, чтобы не осложнять конфликтами мои отношения с одноклассниками. «Ты не убьешь ни одного человека, который не причинил тебе зла», — заклинала она; гордясь тем, что у нее трое сыновей, она тревожилась — я это чувствовал, — что вдруг мы тоже станем «убийцами». В ее ненависти к войне было что-то первозданное; когда она однажды пересказала мне содержание «Фауста», считая, что его самого мне читать еще рано, она осудила пакт Фауста с чертом. Есть только одно оправдание такому пакту: положить конец войне. Только это может оправдать связь с чертом, больше ничто.
Чтение днем и по ночам.
Жизнь подарков
По вечерам у нас больше не читали, скорее всего из-за перемен в ведении домашнего хозяйства. Мать освобождалась, лишь уложив нас троих спать. Она взялась за свои новые обязанности с ярой решимостью. Все, что делала, поясняла — видимо, только так, комментируя и оценивая, могла она вынести скуку повседневных дел. Вообразив, что все должно идти как по ниточке, но не имея к этому ни малейшей склонности, она искала и находила эту заветную ниточку в своих разъяснениях. «Организовывать, дети! — твердила она нам. — Организовывать!» Она так упорно повторяла это слово, что оно смешило нас, и мы хором дразнили ее. Она же, очень серьезно относившаяся к проблеме организации, пресекала все насмешки. «Вот когда начнете жить самостоятельно, увидите, что без организации далеко не уедешь». Стояло же за этим лишь то, что все надо делать по порядку, а при ее-то нехитрых делах не было ничего легче и проще. Но слово подбадривало ее, она всегда для всего находила нужное слово, а может, оттого и были те мои годы с ней истинно светлыми, что тогда говорилось обо всем.
На самом же деле она едва могла дождаться вечера, чтобы, уложив нас спать, сесть, наконец, за книгу. То было время, когда она зачитывалась Стриндбергом. Я, лежа с открытыми глазами в постели, смотрел на полоску света под дверью в гостиную. Там, подобрав под себя ноги, положив локти на стол и подперев правой рукой щеку, сидела она, а перед ней — высокая стопка желтых томов Стриндберга. В день рождения и на рождество к ним прибавлялось еще по книге от нас, как ей того хотелось. Меня охватывало при этом радостное возбуждение, в основном из-за того, что мне нельзя было читать эти книги. Я никогда не пытался заглянуть в них, я любил этот запрет, им объяснял излучаемое желтыми томами свечение, и не было в мире силы, способной сделать меня более счастливым, чем возможность вручить ей очередной желтый том, из которого я знал только одно название. После ужина, когда стол был прибран, а младшие братья уложены спать, я приносил ей желтые тома и складывал стопкой на правой стороне стола. Мы еще немного говорили между собой. Но я уже чувствовал ее нетерпение, понимал его, ведь перед глазами — книги, и, чтобы не мучить ее больше, послушно шел спать. Я закрывал за собой дверь в гостиную и, раздеваясь, слышал, как она прохаживается по комнате. Улегшись в постель, я прислушивался, как скрипнет под ней стул, потом я ждал, когда она возьмет книгу в руки, и, убедившись, что том раскрыт, переводил взгляд на полоску света под дверью. Я знал, что теперь она ни за что на свете не встанет с места, зажигал крошечный карманный фонарик и начинал читать под одеялом свою книжку. Это была моя чутко оберегаемая ото всех тайна, точно такая же, как тайна ее книг.
Она читала до глубокой ночи, мне же надо было экономить батарейки фонарика, потому что деньги на них я выкраивал из скромной суммы моих карманных сбережений, большая часть которых упорно копилась на подарок матери. Поэтому я редко читал больше пятнадцати минут. Когда моя тайна все-таки раскрылась, мать учинила большой скандал, потому что обман она переносила тяжелее всего. Конфискованный фонарик мне, правда, удалось заменить. Но в сторожа ко мне для надежности были приставлены младшие братья, а им же просто не терпелось неожиданно стянуть с меня одеяло. Проснувшись и без особого труда рассмотрев из своих постелей, что голова моя спрятана под одеялом, они бесшумно, чаще всего вдвоем подкрадывались ко мне, беззащитному, ведь под одеялом мне ничего не было слышно. Миг — и одеяла нет. Пораженный внезапностью, я едва понимал, как это случилось, а в ушах уже звенел их победный клич. Мать, сердясь на то, что ее отрывают, неохотно поднималась со стула и с самыми обидными, уничижительными словами: «Нет, значит, на свете такого человека, кому я могла бы доверять» — отбирала у меня книгу на неделю.