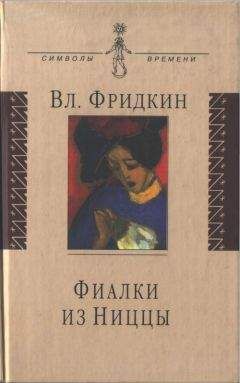— Ненавижу их. И веру свою предали, и народ извели. А Бог-то, он ведь один на всех…
Потом Иван заболел. Людей косила дизентерия. Девать больных было некуда, и каждое утро из бараков выносили по десятку мертвецов. Трупы складывали в полуторку, чтобы отвезти и захоронить в мерзлой тундре. На работы больных не водили. Иван так ослаб, что не мог спуститься с нар. Он бы и умер, если бы не Натанель. Натанель ходил за ним и подкармливал его, притаскивая из кухни что мог. А когда Иван встал на ноги, как-то сумел определить его на работу в санчасть.
Теперь по вечерам он занимался с Иваном ивритом, читал ему отрывки из торы и поучения из «Танах», книги пророков. Иван научился писать на иврите крупными печатными буквами. Шутил, говорил, что готов принять обряд обрезания. Только не в лагере.
Не известно, сколько бы Натанель просидел в лагере и вообще выжил бы. Но после смерти Сталина поляков стали постепенно выпускать. Натанеля выпустили, и друзья расстались. Иван остался в лагере, а Натанель уехал в Вильнюс, встретил там Беллу, тетку Лившицев, женился на ней и переехал в Варшаву. А через год, когда у него родился сын Шауль (тот самый Шейл), семья уехала в Париж. Шауль Шмуклер вырос в Париже, окончил еврейскую школу ешиву, а потом поступил в университет. В начинающем ученом нельзя было узнать его отца, краковского раввина. А старому Натанелю Шмуклеру жизнь сына казалась чужой и непонятной. В конце концов Натанель и Белла переехали в Израиль и поселились неподалеку от Хайфы.
В середине семидесятых к Натанелю пришло письмо из России. Из конверта с маркой, изображавшей советский спутник, выпал лист школьной тетради. Письмо было на иврите и написано крупными печатными буквами. Иван писал, что жив-здоров и просит прислать ему вызов. Хочет приехать в Израиль с женой Раисой Ивановной на постоянное жительство. В Москве у них оставалась замужняя дочь. Изумленный Натанель послал вызов и с полгода ходил по соседям, читал письмо, рассказывал о своем друге и говорил:
— Чтоб я так жил, как они ему не разрешат… Адам музар![30]
А когда Иван все-таки приехал, Натанель еще с полгода ходил с ним по соседям, рассказывал об их жизни в лагере, об уроках иврита и торы на нарах и говорил уже другое:
— Я знал, что он своего добьется. Это же шимшон гибор[31]. Сейчас у евреев одним богатырем стало больше.
Иван Тимофеевич и Раиса Ивановна поселились в Пардесхане, маленьком тихом городке между Тель-Авивом и Хайфой. Там они прожили десять лет. Когда Иван Тимофеевич умер, Раиса Ивановна похоронила его на еврейском кладбище недалеко от моря. Кладбище стояло на холме среди старых согнутых временем оливковых деревьев. Ева видела эту могилу. Белый остроконечный камень с надписью на иврите и «моген довидом». А под шестиконечной звездой выбито по-русски «Ивану от Раисы».
Раиса Ивановна очень тосковала по мужу. Одиночество стало невмоготу, и она решила вернуться в Россию к дочери. Она подала заявление, но ей поначалу не разрешили. Советовали продолжать хлопоты, но она побоялась или раздумала. Теперь дочь и зять приезжают к ней. В русскую родительскую субботу они приходят на могилу помянуть отца. Молодые приносят кое-какую закуску, бутылку местной водки «Кеглевич» и цветы. А Раиса по местному обычаю кладет на могилу камешек. Выпив, Раиса сидит и смотрит на море. На седую прибрежную полосу, на золотисто-синий морской простор с белесыми пятнами отмелей. Тогда она вспоминает про Крым, куда однажды ездила с Иваном по профсоюзной путевке. Географии она не знает, и ей кажется, что там, за горизонтом, где сходится синее море и золотисто-розовое небо, там и находится этот самый крымский берег.
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку…
Бывает же такое… Под вечер я прочел у Вяземского в «Старой записной книжке»: «От сновидения ничего не дождешься, а все же приятно проснуться после приснившегося отрадного сна». И в ту же ночь мне приснился Петр Андреевич, с которым я будто бы по Венеции гуляю. Наутро, проснувшись, стал вспоминать отрадный сон. Впрочем, и без сонника можно понять, почему такое приснилось.
Накануне я приехал из Москвы в Тренто, в университет. В этом итальянском городе я преподаю много лет. Устроившись на квартире, я сперва долго слушал «Эхо Москвы». После новостей состоялась дискуссия о том, совместим ли патриотизм со свободой и демократией. Обсуждали горячо, и мнения разделились. А потом весь вечер перечитывал «Старую записную книжку» и уснул с ней в руках.
Наутро предстояло ехать в Венецию. От Тренто это всего два часа поездом. В Венеции надо было получить во французском консульстве визу в Швейцарию (ее туда переслали из Москвы). Предстояла работа в Женеве на синхротроне. В общем, как говорят, сон в руку. Так вот, еду я наяву в Венецию и в поезде свой сон вспоминаю.
…Поезд прибыл на «Санта Лючия», я прошел через вокзал, вышел на пьяцца ди Рома к Большому каналу, сел в катер и отправился в сторону, противоположную площади Сан Марко, туда, где канал Джудекка вливается в широкий простор Адриатики. А вот и знакомая пристань Ле Дзатторе. Французское консульство размещается в трехэтажном палаццо. Рядом церковь Санта Мария дель Розарио и небольшая траттория со столами, придвинутыми к самой воде, к полосатым столбам с привязанными гондолами. Собираюсь я открыть дверь, а из нее уже выходит среднего роста мужчина в длиннополом сюртуке, шейном платке, повязанном бантом, узких панталонах с цилиндром в руке. Курносое лицо с глубоко сидящими прищуренными глазами с низким пробором у левого уха, скрывающим лысину…
— Здравствуйте, Петр Андреевич!
Вяземский испуганно оглядел меня и спросил, с кем имеет честь. Я представился. Вяземский продолжал изумленно разглядывать сверху донизу мой костюм: ветровка, джинсы, кроссовки. Потом спросил, давно ли я из России. Я ответил, что приехал в Тренто только вчера утром. Ответ князя озадачил. Я тут же сообразил, что следует говорить не Тренто, а Триент и что Триент, как и Венеция, — территория Австрии. Видимо, подумав, что ослышался, Петр Андреевич сказал, что был в Триенте в ноябре 1834 года, и город ему не понравился. К тому же в комнатах холод, камины дымят, хлеб какой-то кислый… Указав на дверь, из которой вышел, добавил, что заходил в гости к княгине Клари, да не застал дома и что не видел ее одиннадцать лет, с тех пор как гостил у ее матери Дарьи Федоровны в Теплице. И что через несколько дней уезжает на лето в Ниццу. Пока мы стояли у ворот дворика, обвитого виноградом, я сообразил, в каком оказался времени. На дворе стоял год одна тысяча восемьсот шестьдесят третий. Все просто. Князь был последний раз у графини Долли Фикельмон летом 1852 года, как он сказал, одиннадцать лет назад. А княгиня Клари — ее дочь Элизалекс, которую Вяземский знал еще по России и прозвал «маленькой Австрией». Элизалекс вышла замуж за князя Эдмунда Клари-и-Альдрингена. Нынешнее французское консульство — это дом, купленный княгиней Клари еще при жизни ее отца, графа Шарля — Луи Фикельмона. С тех пор семейство Клари жило попеременно в Теплице и Венеции. Графа и графини давно нет в живых. Они покоятся на кладбище в чешской деревне Дуби рядом с замком в Теплице. Весной 1945 года правнук Долли Фикельмон князь Альфонс Клари не стал дожидаться советских войск и переехал в венецианское палаццо. Здесь потомки Кутузова и Фикельмон живут до сих пор. Первые два этажа они сдают нынче французскому консульству. Но об этом ни Вяземский, ни сама княгиня Клари, естественно, не знают. Ведь сейчас еще только 1863 год. В России на престоле император Александр Второй, два года как отменено крепостное право, но к реформам суда, цензуры, армии и университетов еще не приступали. Земства еще нет. Но декабристы вернулись. «Главное не перепутать время и события, — соображаю и сплю, — надо быть в ногу со временем, даже во сне. А то князя напугаю, как своими джинсами».
Князь спросил, бывал ли я в соседней церкви Санта Мария дель Розарио.
— Она славится своим огромным алтарем и картиной Тинторетто "Cristo in croce е la Maria» и статуями Морлейтера, — сказал князь.
Мы постояли в прохладной тишине церкви, и Петр Андреевич спросил, что слышно в России.
— В России много шумят и пишут о патриотизме. Обсуждается животрепещущий вопрос, совместим ли патриотизм со свободой и критикой политики правительства.
— Любовь к отечеству… — начал князь. Для некоторых любить отечество значит дорожить и гордиться Карамзиным, Жуковским, Пушкиным и тому подобным. Для других любить отечество значит любить и держаться Бенкендорфа, Чернышева, Клейнмихеля и прочих и прочего…
Мы вышли к каналу, и я сделал знак гондольеру. Но князь предложил прогуляться пешком до гостиницы «Даниели», где он остановился. И мы отправились вдоль канала по направлению к мосту Риальто.