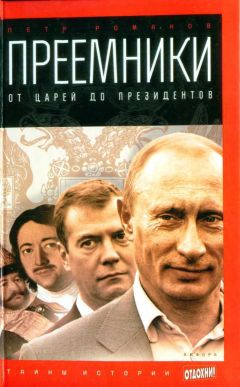Конечно, секретариат он и есть секретариат — кнопки, скрепки, но существовало незаслуженно забытое всеми очень выгодное для Сталина распоряжение Политбюро. Решение секретариата партии, не опротестованное членами Оргбюро, становилось решением Оргбюро, а решение секретариата, не опротестованное Политбюро, автоматически становилось решением Политбюро. Единственный, кто входил во все три властные структуры, — Сталин. Он и докладывал решения там и тут, причем, естественно, так, как это было нужно ему.
Наконец, став генсеком, Сталин получил право вмешательства в дела Коминтерна. Очень скоро через денежные потоки он начал контролировать деятельность и этой организации.
Кто-то все еще думает, что Сталин сменил Ленина у партийного руля случайно?
В политической истории России XX века почти все было противозаконно, но почти все закономерно.
От ленинизма к национал-большевизму
Известная аксиома сталинских лет, что Иосиф Виссарионович — верный продолжатель дела Ленина, на самом деле не работает. Сталин строил свой Советский Союз, а громя троцкизм, очень часто подразумевал под троцкизмом ленинизм, поскольку и Ленин, и Троцкий, с точки зрения нового вождя, были неизлечимо больны идеей мировой революции и интернационализма.
Эти цели, во всяком случае в ленинско-троцкистской трактовке, Сталина не устраивали, да и изменившаяся ситуация в мире, в России и в самой партии большевиков к моменту появления нового вождя диктовала необходимость многое оценить заново. Есть свидетельства, что Крупская в 1926 году в кругу левых оппозиционеров говорила: "Будь Ильич жив, он, наверное, уже сидел бы в тюрьме".
Ленин и Сталин совпадали во многом, но не во всем. В богатом марксистском наследии у Ленина были свои избранные места. Как считал Ильич, если именно эти мысли Маркса и Энгельса пропустить, не понять или не оценить в полной мере, все остальное в марксизме рушится, становится неработоспособным. Исповедовать марксизм, но не признавать безоговорочно именно эти ключевые положения означало для Ильича отказ от всего марксизма в целом.
Ленин чувствовал ахиллесову пяту доктрины и бдительно ее защищал. Главнейшим из таких ключевых пунктов являлось отношение к насилию. Именно на этом оселке Ильич обычно проверял марксиста и выносил приговор относительно его революционной пригодности. Любимой присказкой Ленина стали слова: "Не будем подражать тем горе-марксистам, про которых говорил Маркс: "Я сеял драконов, а сбор жатвы дал мне блох"". Между марксизмом драконовским и марксизмом блошиным Ленин твердо выбирал первое. В этом они со Сталиным совпадали полностью.
Два следующих ключевых для Ленина пункта напрямую связаны с первым. Это воинственный атеизм и верность пролетарскому интернационализму. Марксизм предполагал не бархатную революцию, а системное насилие, что неизбежно требовало от революционного бойца особых качеств. Молитва перед атакой или чрезмерная привязанность к родным березам здесь были точно так же неуместны, как и доброта. Бог мог очень некстати напомнить о нравственности, а любовь к родному пепелищу — заставить забыть о священном долге перед международным пролетариатом.
Если атеизм бывший семинарист Джугашвили на словах принял безоговорочно (что на самом деле творилось в душе Сталина — немалая загадка), то вот интернационализм, как совершенно определенно выяснилось после смерти Ленина, его преемник понимал по-своему.
Если Ленин ради мировой революции готов был пожертвовать Россией — пустить ее, так сказать, на растопку всеобщего пожара, то Сталин, не отказываясь в принципе от идеи мировой революции, существенно изменил акценты. Если, по мысли Ленина, Россия должна была всем жертвовать ради мировой революции, то Сталин считал, что мировая революция должна работать на Россию. Позже на переговорах с Западом Сталин достаточно умело использовал тему мировой революции как предмет торга: мы вам уступим здесь, а вы нам уступите здесь.
Зародыш этой мысли созрел в голове у Сталина, видимо, задолго до смерти Ленина. Во всяком случае, во время дискуссии о Брестском мире, поддержав в целом вождя, Сталин между прочим заметил и следующее: "Революционного движения на Западе нет… а есть только потенция, ну а мы не можем полагаться в своей практике на одну лишь потенцию". Ленин, все еще не оставивший надежды на мировую революцию, ученика, естественно, тут же поправил, упрекнув в неверии, однако в итоге позиция ученика оказалась куда прагматичнее позиции учителя.
Правоту Сталина доказала сама жизнь: мировое революционное движение, и в частности Коминтерн, надежд большевиков не оправдали. Кстати, это разочарование легко уловить даже у позднего Ленина. Если до революции и какое-то время после нее вождь постоянно учил своих соратников на зарубежных примерах, полагая, что русские намного отстали от европейских марксистов, то затем, после возникновения Коминтерна, изменил свою позицию и теперь уже пытался учить западных товарищей на примере нашей революции.
Ученики, однако, оказались нерадивыми, что не раз вызывало гнев вождя мирового пролетариата. Тех, кто сомневался в глубине послевоенного капиталистического кризиса на Западе, Ленин из числа своих учеников вычеркивал немедленно и решительно. Так, например, пострадал Рамсей Макдональд, лидер английской Независимой рабочей партии, которая собиралась вступить в Коминтерн. На втором конгрессе Коммунистического Интернационала Макдональд получил от Ленина целую пригоршню ругательств. Всего лишь в одном абзаце англичанин был назван буржуазным пацифистом, соглашателем, мелким буржуа, лгуном, софистом, педантом и филистером. Между тем бедный англичанин, подняв руку на задней парте, всего лишь высказал сомнение, а именно предположил, что послевоенный кризис скорее всего постепенно "рассосется", а революционное брожение в массах "уляжется".
В своем последнем выступлении на заседаниях Коминтерна учитель с горечью констатирует:
В 1921 году на III конгрессе мы приняли… резолюцию об организационном построении коммунистических партий и о методах и содержании их работы. Резолюция прекрасна, но… все сказанное в резолюции осталось мертвой буквой… Учиться должны… иностранные товарищи… Как это произойдет, этого я не знаю. Может быть, нам окажут большие услуги, например, фашисты в Италии тем, что разъяснят итальянцам, что они еще недостаточно просвещены…
По поводу фашистов Ленин, естественно, иронизировал, но лучше бы он этого не делал, учитывая всю дальнейшую мировую историю.
Как бы то ни было, малограмотный дореволюционный русский пролетарий перелопатил всего Маркса, Энгельса и Ленина. Все прочел, все понял. И все сделал так, как понял. Образованный западноевропейский пролетарий, которого очень долго восхвалял Ленин, не смог одолеть даже одной резолюции Коминтерна. Ничего не понял и ничего не сделал. Впрочем, к счастью для Европы.
Итак, Советская Россия оказалась вынужденной выживать одна во враждебном окружении. Отсюда и первая причина смены ориентиров. Ленинская мечта о мировом взрыве не осуществилась, а значит, хотел того Сталин или не хотел, сама жизнь заставила его защищать интересы единственной на тот момент революционной крепости — Советского Союза.
Так что национал-большевизм упал не с неба. Это сращение большевистских и национальных интересов на определенном историческом этапе можно называть по-всякому в зависимости от степени ненависти к советскому режиму: вынужденным, противоестественным, своеобразным и так далее. Что, однако, не отменяет неоспоримого факта: борьба с неграмотностью, скорейшая индустриализация, укрепление обороноспособности страны и многое другое объективно отвечало интересам России. Рассуждать о том, что куда эффективнее и не столь болезненно эти же задачи решила бы другая политическая сила, конечно, можно, однако, увы, лишь в сослагательном наклонении. Что было, то было.
Имелись и иные причины, которые делали приход к власти Сталина и дальнейшее укрепление сталинизма закономерным и даже неизбежным.
В годы Гражданской войны была популярна частушка:
Полюбили сгоряча
русские рабочие
Троцкого и Ильича,
и все такое прочее.
К моменту смерти Ленина горячка уже давно прошла, что, в частности, доказал и знаменитый Кронштадтский мятеж (восстание) 1921 года. В этот момент та же частушка принципиально изменилась:
Расстреляли сгоряча
русские рабочие
Троцкого и Ильича,
и все такое прочее.
Хмурый взгляд рабочего у станка не сулил ничего хорошего партии. Десятого марта 1921 года в канун штурма Кронштадта Тухачевский докладывал Ленину:
Если бы дело сводилось к восстанию матросов, то было бы проще, но ведь осложняется оно хуже всего тем, что рабочие в Петрограде определенно не надежны… Сейчас я не могу взять из города бригады курсантов, так как город с плохо настроенными рабочими было бы некому сдерживать.