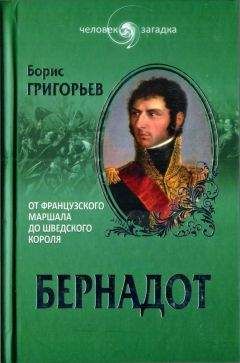Бедного моряка Вильгельма, который попытался увильнуть, сославшись на свой адмиральский мундир, и которого немедля обули в русские кавалерийские сапоги, до сих пор тревожило лишь одно: что будет, если ему достанется горячая казацкая лошадь; он терпеть не мог ездить верхом, питая, как всякий умный человек, недоверие к лошадям, животным красивым, однако безрассудным. С лошадью проблем не возникло, но когда процессия миновала полпути, возле дороги поднялась суматоха, какая-то фигура метнулась сквозь строй городовых, упала навзничь, хотя успела-таки протянуть царю некий предмет. Борис и Вильгельм уже находились по бокам самодержца всея Руси, и бедный двадцатидевятилетний шведский адмирал на своей русской лошади приготовился пасть геройской смертью за властителя России, заклятого врага Швеции.
Между тем виновницей суматохи оказалась помешанная русская старуха, которая слезла с печи, чтобы передать царю прошение, его-то она и держала в руке. «Бумагу забрал один из слуг и, наверно, упрятал в бездонный сундук, где таких уже полным-полно», — заметил Вильгельм, который вдобавок нашел питейные привычки русских гвардейских офицеров просто ужасными.
Некоторое время, кстати сказать, его прочили в короли Албании, но дело кончилось ничем.
В 1914-м на балу морских офицеров тридцатилетний Вильгельм познакомился с Жанной Транкур, которая была девятью годами старше его. Простая французская девушка, она имела неосторожность выйти замуж за шведского скульптора Кристиана Эрикссона[144], родила ему четверых детей, но счастья не знала. Теперь она была в разводе, как и Вильгельм. Прожив некоторое время на родине, во Франции, где на заднем плане мелькает состоятельный поклонник, она вернулась в Швецию и открыла в стокгольмском Эстермальме модный салон. Очевидно, эта француженка принадлежала к тому типу, какой часто описывают, но редко видят воочию, — живая, кокетливая, красивая, неотразимая, капризная дочь природы, то смеющаяся, то плачущая, слегка наигранно-взбалмошная, но под маской простушки весьма расчетливая и рассудочная. Сам принц Вильгельм говорил о ней так: «Неглубокая, но добрая». По словам его сына Леннарта, она отчаянно интриговала, стараясь рассорить отца и сына, и в своих мемуарах Леннарт отплатил ей, описав, какая «интеллектуальная пустота» разверзалась, как только она пыталась поддержать беседу с Вильгельмом и его культурным окружением.
Жанна Транкур и Вильгельм не расставались без малого сорок лет, вплоть до ее кончины. Не в пример Марии Павловне она не считала, что в постели Вильгельм сущий чурбан, напротив, кое-что предприняла, так как принц наконец достиг «гармонии сердечной и телесной», «минут блаженства и воспоминаний милых, полных пылкой страсти» и прочих приятных вещей. Разведенные дамы с детьми не самое худшее. Тем паче для закомплексованного принца. Он настолько привязался к Жанне, что некоторое время даже ощущал это как принуждение; опытный морской волк и будущий писатель потребовал свободы — но вскоре обнаружил, что мужчине нехорошо жить одному, и они воссоединились.
Небезынтересно сравнить артистическую карьеру Вильгельма с карьерой его дяди Евгения. В том возрасте, когда Евгений уже создал многие из своих шедевров, картин, принадлежащих к числу непреходящих ценностей, молодой принц Вильгельм писал стихи, настолько плачевные, что поневоле задумываешься, а выйдет ли из него вообще что-нибудь на писательской стезе. Одни рифмы чего стоят — «чад городской и суета», а рядом «солнце над морем, небес синева», «оковы и тернии», «прелесть и призрачность», не говоря уже обо всем прочем. В ноябре 1910 года его убогие вирши декламировал не кто-нибудь, но Андерс де Валь[145]. Спустя шесть лет принц выпустил первый сборник стихов — «Погасшие маяки», — встреченный критикой с верноподданническим одобрением, исключение составил Бу Бергман[146], который деликатно, однако решительно заявил, что «дилетантизма местами многовато», и заключил сглаживающим, но ничего не говорящим «худшее умение версифицировать я видел во многих поэтических дебютах».
Да, вы догадались правильно. Умный принц завязал контакты с Бу Бергманом, они подружились, и, возможно, принц получил кой-какую помощь от таланта из Почтового ведомства, который знал толк не только в почтовых сборах, но и в стихотворных стопах и стилистике.
Как поэт-лирик Вильгельм был слабоват, несамостоятелен, подражателен, к тому же явно несамокритичен. Правда, со временем его умения улучшились. Позднее он написал путевые очерки — о своих многочисленных и весьма экзотических путешествиях. Ведь в ту эпоху дальние путешествия были редки и для большинства совершенно недоступны; если кто-нибудь отправлялся в США, то плыл туда на корабле, и, к примеру, один из очерков мог рассказывать о пароходе и о том, как выглядит машинное отделение, — читающая газеты общественность проглатывала все; что уж тут говорить об охотничьих репортажах из дебрей Африки. Повествования принца отражают тогдашние взгляды, и сегодня незачем ужасаться, что он охотился на зверей, которым грозит истребление. Когда стало известно, что он стрелял горилл, а возможно, и других приматов, датские газеты критически писали, что «джентльмены на обезьян не охотятся», однако затем взяли свои слова обратно. Кстати, Вильгельм был гостем на свадьбе Карен Бликсен[147], которую праздновали в поезде, идущем в Найроби.
Поистине явлением в шведской культурной жизни стали впоследствии превосходные документальные фильмы Вильгельма, бесценный материал об исчезнувшей Швеции. Причиной их возникновения послужило то, что вся прислуга замка Вильгельма — Стенхаммар — в июле уходила в отпуск и принц поневоле покидал обезлюдевшее местожительство; потому-то в этих фильмах мы неизменно видим Швецию в разгар лета.
Вильгельм, как правило, выдвигал идеи насчет того, что именно надо снимать, затем Густав Буге выполнял операторскую работу, а принц вел дневник, усердно записывал и после начитывал текст как комментарий к отснятому материалу. Сегодня его дикторский текст воспринимается как старомодный и стереотипный, но сами съемки неоценимы.
Ныне почти забыт вклад почтенного Вильгельма в драматургию — его театральные пьесы, которые в свое время привлекали большое внимание. Дебютировал он в 1924 году пьесой под названием «Кинангози». Основанная на африканских путешествиях, с массой аутентичного реквизита, она была поставлена не где-нибудь, а в Королевском драматическом театре — коль скоро именуешься Королевским, кое с чем приходится мириться. На премьере присутствовал двор, в газетах — крупные заголовки, в интервью после премьеры дебютант высказался умно и скромно, а о пьесе с тех пор слыхом не слыхали. Премьера следующей пьесы состоялась в 1926 году — в хельсинкском Шведском театре. Называлась она «На борту» и возникла тоже в результате неутомимых разъездов; в 1927-м ее сыграли в Королевском драматическом, а затем в Штральзунде (Германия) и в Норвегии.
Пьесу № 3 впервые поставили в 1934 году, только в стокгольмском Студенческом театре, а это, пожалуй, позволяет сделать вывод, что Драматический театр полагал себя достаточно оправдавшим звание Королевского. Однако чаша сия не миновала его в 1949 году, когда там играли пьесу «Бросовый товар» с участием, в частности, Биргитты Вальберг, Свена-Эрика Гамбла, Пера Оскарссона и Май-Бритт Нильссон. Даже отъявленно злобные критики высказались на сей раз довольно доброжелательно, возможно, в основном потому, что принц был теперь со всеми в приятельских отношениях и его весьма уважали за добропорядочность в годы войны. Драматургическое творчество принца Вильгельма после 1949 года отнюдь не прекратилось и к концу определенно выглядело вовсе не катастрофическим. Отмечалось, кстати, что среди премьерной публики, весьма и весьма благодарной, находились придворные, представители ПЕН-клуба[148], Карин Кок[149] и не больше и не меньше как ярый республиканец Вильгельм Муберг. Видимо, он сделал исключение для коллеги и тезки.
Самое лучшее за подписью «ПеВе» (так принц подписывал свои материалы в «Свенска дагбладет») — это мемуары: «Где светит солнце», «Бездомный кот», «Свободная страна» и «Эпизоды». С художественной точки зрения они намного удачнее, а как документы эпохи просто великолепны. Портрет матери, нарисованный с сочувствием и пониманием, позволяет угадывать невысказанное — он полон огромной любви. Вильгельм был любимым ребенком, и свои письма к нему мать начинала словами «Meine Blume»[150]. Отец, Густав V, вообще не упомянут, так сказать, вырезан. Рассказ об Оскаре II — хорошее, лишенное излишнего драматизма дополнение к представленному выше портрету лицемерного и напыщенного монарха, который проповедовал мораль, а в следующую минуту напропалую, оптом и в розницу, грешил и с женами крупных коммерсантов, и со служанками. ПеВе вспоминает, как Оскар играл с детьми в одну из разновидностей «Делай как Йон», только говорили по-французски, а «Йон» заменили на «Муфти»: «Mufti fait comme ci, Mufti fait comme ça»[151]; присутствовал он и когда Оскар привычно надевал мантию и корону перед торжественным открытием сессии риксдага. Подобных описаний ни у кого другого не найдешь.