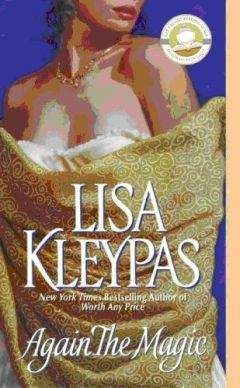В какое-то мгновение он почувствовал, что брести под беспрестанным дождём уже выше его сил, и нырнул в первую попавшуюся нору – вход в сабвей, здешнее метро. И вновь, как в самый первый раз, ему почудилось, что он спускается в преисподнюю, в чистилище, странным образом напоминающее какую-нибудь провинциальную допотопную баню или же санпропускник военной поры, в каком он никогда в жизни не был. По чугунным истоптанным ступеням, следуя не столько указателям, сколько интуиции, подымаясь и опускаясь, он переходил со станции на станцию, с одной линии на другую, из одного грязного коридора в такой же с подтёками сырости на потускневшем кафеле стен, с влажной духотой, которая странным образом усугублялась скуповато-тусклым освещением. Казалось, что слабеющие светильники тонут в клубах пара. Из них, из этой мистической душной полумглы, выступали фигуры людей, сам физический тип которых прежде был Баркалову неизвестен. Это были метисы и мулаты всех мастей, старые нищие негры в опорках на босу ногу, гремящие милостыней, собираемой в бумажный стакан из-под кока-колы, индейцы, а может, азиаты, перемешанные с чернокожими, пугающие физиономии которых приблатнённостью выражений напоминали Баркалову дворы и подворотни его детства.
Из тоннеля поезд выбрался на эстакаду и загрохотал по ней, омываемый потоками дождя. На станции «235-я улица» Баркалов вышел из опустевшего вагона, по скользким чугунным ступеням спустился на Бродвей, похожий в эти минуты на широкую реку, так сказать Бродривер, текущую среди двухэтажных, смахивающих на бараки домов. Памятуя, что ему нужно идти от Бродвея up hill, то есть подыматься в гору, он и побрёл вверх по кирпичной глухой улице, напоминающей рабочие окраины в Свердловске или в Магнитогорске. Разве что магазинов и магазинчиков на ней было побольше, но сейчас они были закрыты, а в дверях редких сомнительных баров торчали чёрные ребята стрёмного вида или такие же латиносы, мимо которых боязно было проходить. Но в то же время давнее дворовое чувство опасности пробуждало в нём самолюбие, подавляемое в течение всего нынешнего вечера. А честно говоря, в течение почти трёх недель пребывания в Нью-Йорке. В сущности, в «Русском самоваре», расплатившись по-купечески за всю ксюхину бражку, он совершил свой единственный в Америке мужской поступок, и теперь запоздалая гордость распирала его. Точнее, гордость, переходящая в заносчивость и даже в нечто, родственное злости, – попадись ему в это мгновение Инна, он наговорил бы ей кучу нелепых, чудовищных вещей в отместку за все свои унижения, за терпеливую покорность, за проглоченные обиды. Это был бы бунт на корабле, жестокий и яростный, как все бунты, но праведный и давно зревший. Уважая себя за смелость, за легко приходящие на хмельной ум горькие саркастические аргументы, Баркалов перестал обращать внимание на дождь и на то, что дорога его не имеет конца. Давно уже должна была возникнуть на его пути знакомая развилка с приметным зданием лютеранской или какой-нибудь квакерской церкви посередине. Должен был показаться озарённый голубым неоном City bank, вернее, одно из типичных его районных отделений, разбросанных по всей Америке. Наконец, давно пора было начаться Джонсон-авеню, её респектабельным, уютным, хотя зачастую простодушно безвкусным особнякам.
Вместо них, до Баркалова наконец дошло, беспросветно тянулись унылые грязные дома, такие однотипные, будто настроили их в соответствии с каким-нибудь памятным постановлением партии и правительства. Как-то сразу Баркалов осознал, что заблудился, и от внезапного отчаяния окончательно возненавидел Инну. Конечно, это она была виновна в его дурацких блужданиях, в том, что проклятый дождь даже не думал ослабевать, и даже машины почти не ездили по этим жутким улицам по её же вине. Машин и вправду почти не было видно. Зато прямо под дождём бегали крысы. Одна из них, выскочив из бара, скоренько пересекла тротуар по направлению к мусорным бакам под самым носом у Баркалова. Озноб передёрнул его плечи, в Иннином Ривердейле он успел привыкнуть к скачущим под окнами белкам, а заодно и к енотам, которых здесь называли неведомым словом racoon. Ракунов в Москве Баркалов, понятно, никогда не встречал, зато крыс в последние годы развелось пруд пруди, почти как здесь, из чего сам собою напрашивался вполне марксистский вывод о том, что бедность от богатства отделяет не океан, а, как в данном случае, всего лишь одна-единственная улица.
Стало ясно, что брести наугад бессмысленно. Теперь даже обшарпанная станция метро на гудящей чугунной эстакаде представлялась обжитой и уютной, почти как «Охотный ряд» или «Кропоткинская». На этой станции он часто спасался от дождя, особенно в молодости; остался в памяти Гоголевский бульвар, безуспешные попытки укрыться от грозы под его листвой, бег по лужам, шлёпанье по гранитным ступеням… И под сводами станции, похожей на храм, счастливое мокрое женское лицо. Скорее всего, Иннино, хотя, может, и чьё-то иное…
Баркалов вернулся к некоей, как ему показалось, отправной точке своих шатаний и остановился в изнеможении и нерешительности. От безысходности, похожей на детскую беспомощность, хотелось плакать и звать на помощь.
Оглядевшись, Баркалов обнаружил, что в нишах подъездов, на вынесенных из квартир стульях и табуретах, а иной раз в креслах-качалках восседают, будто позируя провинциальному фотографу, негритянские многодетные семейства. Почтенные матроны необъятных размеров, чёрные бабушки в очках, неполиткорректно вызывающие в памяти героиню известной крыловской басни, мужчины в широких подтяжках, глазастые, зубастые дети, довольные тем, что никто их не гонит спать. Молодёжь и подростки, несмотря на дождь, тусовались на тротуаре, напоминая Баркалову о его собственной юности. Поражала их стрижка: из жёстких проволочных волос в манере французских садовников парикмахеры соорудили кубы, параллелепипеды, едва ли не конусы и пирамиды.
Заготовив мысленно вежливую и, быть может, не слишком формальную фразу, Баркалов приблизился к молодым людям. Уже выговаривая заготовленные слова, в одно мгновение он вспомнил сотни рассказов, баек, слухов, доходивших до него в разное время, о жестокой агрессивности чёрного хулиганья, о том, что белым без нужды в эти кварталы не стоит совать нос, тем более по вечерам, о дурости советских туристов, желавших выразить своё сочувствие угнетённой негритянской молодёжи и схлопотавших от неё по роже. Последняя перспектива представилась весьма вероятной. Организм реагировал на неё физиологически. Липким потом между лопаток, холодом в мошонке, кажется, даже бурчанием в животе. Баркалов был единственным белолицым среди этой чёрной, цветной, фантастически постриженной, бог знает во что наряженной, никоим образом с ним не совместимой и не соотносимой компании. Во всём этом обшарпанном квартале, на всей этой бесконечно угрюмой улице.
– I am first time in New York, and I am getting lost («Я впервые в Нью-Йорке, и я заблудился»), – английские слова теснились у Баркалова во рту, словно горсть дешёвых леденцов или морских камешков. Однако чаемое действие они оказали. Бойкие черномазые девицы, в облике которых неожиданно промелькнуло что-то знакомое, пэтэушное, балашихинское, люберецкое, принялись со свойским понтярским дружелюбием растолковывать ему дорогу. Переводивший в своё время учёных, политиков и кинорежиссёров, их слова Баркалов разбирал с трудом, более того, порой их подворотняя скороговорка представлялась ему вовсе нечленораздельной и при этом поразительно близкой родимому хамски-выразительному молодёжному жаргону. Баркалова преследовало ощущение, что юная, слегка пришепётывающая негритянка время от времени автоматически приговаривает:
– Понял, блин, понял?
Кое-что из этих приблатнённых указаний он всё же усёк. Во всяком случае, двинулся в обратном, на этот раз правильном направлении. Миновал почти родной уже Бродвей, похожий в этих местах на улицу из киновестерна, и вновь попёр вверх, сообразив, что в прошлый раз элементарно направился up hill не в ту сторону. Когда на чугунном старинном указателе возникла надпись Jonson avenue, Баркалов едва не запрыгал от радости, будто школьник, впервые сложивший буквы на вывеске в понятное слово.
Свой приют он узнал издали – трёхэтажную неуклюжую стилизацию под лондонский аристократический особняк с чахлым палисадником под окнами и гаражом, задёрнутым металлической шторой. И голубую Иннину «тойоту» заприметил, припаркованную на значительном от дома расстоянии, что свидетельствовало о позднем её возвращении, когда добропорядочные обыватели уже заняли своими «маздами», «ниссанами», а то и «кадиллаками» более удобные места. Баркалов готов был поверить, что на пороге дома увидит Инну, которая, само собой, переживает его исчезновение, места себе не находит, смолит свои «Мальборо лайт» одну за одной и высматривает его в перспективе ночной, тускло освещённой Джонсон-авеню. Ничего подобного, разумеется, не произошло. Баркалов отпер парадную дверь и, стараясь ступать бесшумно, полез на неверных, отказывающихся служить ногах вверх по обитым синтетическим штосом ступеням.