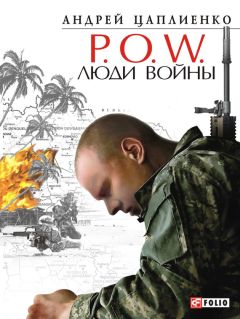«Но мы так и не нашли его, – злился Эфраим Зурофф после поездки, но, похоже, в большей степени на себя. – И когда я был там, в Латинской Америке, то говорил, что очень похоже на то, что Хайм прячется где-то на полпути между Пуэрто-Монтт и Барилоче. И если он жив сегодня, я ни капельки не удивлюсь, если он там находится».
«На полпути» в данном контексте звучит как ключевое понятие. В Пуэрто-Монтт живет Вальтрод Диарсе, которую Зурофф считает дочерью Ариберта Хайма. Ее мать жила неподалеку от Маутхаузена, и у нее был роман с лагерным доктором. Вальтрод это, впрочем, отрицала. Охотник проследил за Вальтрод и обнаружил, что она по нескольку раз в неделю ездит по маршруту в Барилоче из Пуэрто-Монтт и назад. Зурофф предположил, что старик Хайм обитает где-то посередине, а любящая дочь навещает отца и ухаживает за ним. Но, конечно же, никого Эфраим Зурофф не нашел. И тут, решив свернуть поиски в Южной Америке, он узнал новость. Вальтрод объявила о том, что хочет получить в наследство два миллиона евро, которые находились заблокированными на одном из счетов Хайма. Охотник потирал руки. «Ого-го! – подумал он. – Она все-таки знала, где его искать». Но объяснение лежит на поверхности. Признать себя дочерью самого разыскиваемого нациста за два миллиона евро – чем не выбор? Почему бы так не поступить чилийской немке, для которой Вторая мировая война – не больше чем глава из учебника истории? А Зурофф, между тем, начал искать и другие сведения о Хайме. И нашел любопытный факт. Оказывается, один турист из Израиля столкнулся в магазинчике на испанском курорте с человеком, очень похожим на Хайма. Этот человек говорил по-немецки и выглядел как компьютерный фоторобот, представлявший возможную внешность девяностолетнего Хайма. А спустя некоторое время немецкий кинодокументалист Инго Хельм, снимая фильм о Хайме, следил за его домом и увидел в квадрате ночного окна старческий профиль. «Вот где сейчас Доктор Смерть», – обрадовался Хельм.
«Конечно же, это был не он! – Я слышал в динамике своего мобильного смех Инго, рассказывавшего об этом случае. – Жена Хайма принимала в гости какого-то старика, и его мы приняли за доктора».
Но вот что удивительно. Все эти факты почти совпадают по времени. Сразу же после начала поисков в Патагонии Эфраим Зурофф объявил, что очень близко подобрался к Хайму и вскоре поймает доктора. И вот именно тогда в Каире появился портфель с документами, которые убедительно доказывают, что искать больше некого. Доктор Хайм давно в могиле. Просто невероятно. Он спокойно доживал свои дни в Египте, там, где его и не думали искать.
«Он был мне как отец. Он многому научил меня. И Господь принял его», – говорил журналистам Махмуд Дома, сын близкого друга Хайма, хозяина гостиницы, в которой жил доктор. Когда Махмуд был подростком, Ариберт Хайм занимался его образованием. Учил языкам и, в конечном итоге, заставил поступить в университет. Именно Махмуд нашел документы Хайма. Похоже, бывший нацист умел дружить. Благодаря таким людям, как семья Дома, Хайма не смогли поймать в сорок пятом и в шестьдесят втором. Для преследователей он был кровавым монстром. Но для близких людей важно было совсем другое. Доктор был надежным другом. Даже сегодня друзья продолжают защищать его интересы. Махмуд Дома скрывает то место, где находится могила Хайма. Передать документы он согласился при одном условии, о котором Эфраим Зурофф говорит так: «Главное условие, которое поставил человек, нашедший документы и передавший их немецким и американским журналистам, было следующим: чтобы эти документы ни в коем случае не попали ко мне в Центр Симона Визенталя».
Доказательства смерти Хайма не устраивают Центр Симона Визенталя. Нет тела нациста. Экспертизу провести невозможно. Зурофф будет продолжать свои поиски, пока не найдет Хайма. Живого или мертвого. Вот почему Махмуд Дома не хочет отдавать ему документы. Но есть еще одно странное обстоятельство, которое настораживает Зуроффа. Дети доктора так и не заявили о правах на его наследство.
«Это еще одно доказательство того, что Хайм, возможно, жив. Дети не претендуют на его банковский счет. Это два миллиона евро, которые должны достаться его детям», – говорит охотник.
«А как же его дочь? Она, кажется, как раз и претендует», – спрашиваю я. Но Зурофф оставляет этот вопрос без ответа, лишь пожимая круглыми плечами. Родственники Хайма – это единственная реальная зацепка, и она однажды приведет к доктору, уверен Эфраим Зурофф. Правда, теперь охотник вынужден охотиться исключительно самостоятельно. Спецслужбы сворачивают поиски беглых нацистов. Они не собираются тратить силы и деньги на розыск доктора из Маутхаузена. Их интересуют только реальные угрозы. Престарелый Хайм больше не представляет опасности.
Справедливость должна восторжествовать вовремя. Девяностолетнего старика, у которого слюна течет по подбородку, который даже не знает, где находится, трудно представить молодым эсэсовским офицером, убийцей десятков, а может быть, и сотен людей. Пока Эфраим Зурофф ищет нацистов, время по-своему разбирается с ними.
* * *
Кстати, у истории Маутхаузена и лагерного доктора Ариберта Хайма есть обратная сторона. Для доктора, которого прозвали «Смерть», опыты в Маутхаузене были только эпизодом его карьеры, из-за которого Ариберт Хайм большую часть своей жизни провел в страхе быть пойманным. Впрочем, это не мешало ему жить в достатке и пользоваться всеми благами, которые дают деньги и связи. Участь же советских узников Маутхаузена была совсем другой.
Пятого мая сорок пятого они вышли за лагерные ворота. Мечта о свободе придавала этим голодным подросткам силы в течение нескольких лет. Теперь они ждали, что мир, наконец, изменится. Что после страшных мучений, которые они выдержали, мир станет по крайней мере справедливым. Казалось, дома их ждет другая жизнь. И они никогда больше не будут человеческим материалом.
Николая Киреева уговаривали не возвращаться:
«Дай Бог американцам всего за то, что освободили нас! Но я из американского лагеря для интернированных бежал. Я хотел только на Родину. Там русские эмигранты уговаривали нас на ломаном русском языке: «Вы должны ехать в Америку, в Канаду, в Австралию, там хлеб, там довольственная жизнь!» Я думаю: «Эх-ма, куда я попал! Из одного лагеря в другой». Ну, я-то домой собирался, на Родину, свобода меня ждала, вот. Я был уверен в одном. Я был уверен в свободе и справедливости на земле. И удрал домой, где свобода».
Но Родина распорядилась иначе. Их возвращение по-прежнему было нежелательным. Николая Киреева на десять лет отправили в советский лагерь. Его вина была в том, что он находился на территории рейха и его освободили американцы. Также его обвинили в сотрудничестве с немцами. Якобы свидетели помнят, что накануне освобождения Маутхаузена американцами заключенный Киреев пытался записаться в немецкий добровольческий отряд, чтобы сбежать из лагеря. Вывод: новый срок. Советский. Десять лет лагерей. От звонка до звонка. Примерно такой же была участь сотен бывших узников Маутхаузена. Они очень скоро узнали, что советский лагерь почти не отличается от нацистского. Но эти люди смогли выжить. Повзрослев в Маутхаузене, смерти они уже не боялись.
«Если бы мы погибли там, в Маутхаузене, это было б хорошо, мы были бы герои, про нас рассказывали бы разные байки, и так далее, а раз мы остались живы, тогда, значит, мы предатели. – В словах Василия Кононенко горечь, в голосе слезы. – Когда вот сейчас спрашивали, спрашивали меня: «Ты ненавидишь немцев?», я говорю: «Нет, я к ним ничего не имею». У них был такой порядок. Мы верили Сталину, они верили Гитлеру. Если немец слово сказал против Гитлера, тогда его в лагерь. Если мы анекдот расскажем про Сталина или просто какой-то политический, нас тоже не погладят по головке, так что тут у каждого свой диктатор. А вот то, что случилось у меня после освобождения, за это я ненавидел Сталина, и по сей день я против Сталина».
От советского лагеря Василия Кононенко спасло только то, что он был на грани истощения. В день освобождения
Маутхаузена он весил двадцать шесть килограммов. Поэтому срок парню решили не давать. В НКВД рассчитывали, что он и сам умрет. Он выжил. До середины шестидесятых находился под подозрением. Не мог поступить в ВУЗ, не мог работать, кем хотел, и жить, где хотел. Эти люди не были борцами с системой. Они просто хотели жить. То, что их воля к жизни оказалась мощнее любой системы, было невозможно вычислить экспериментальным путем.
Шри-Ланка, середина 2000-х
У него был такой запах, что казалось, пряный тропический лес находится рядом, за раскрытым окном. А название, если произнести вслух, словно убаюкивало волшебной сказкой диковинной земли. Цейлонский байховый чай. Попробуйте произнести эти три слова вслух, только медленно, с расстановкой, и вы поймете меня. Цейлонский. Байховый. Чай. А еще он напоминает о колониальном прошлом острова, носившего некогда британский топоним Цейлон и поменявшего имя на сингальское Шри-Ланка, Благословенная родина-мать. Но есть у него и другое название, которое переводится примерно так же с тамильского языка: «Илам, земля предков». Обычно это слово произносят с ударением на последнюю «а», но правильно все-таки делать ударение на первый слог. Я оказался здесь еще тогда, когда север страны контролировали «Тигры освобождения Тамил-Илама». А имя их лидера Велупиллаи Прабакарана, произнесенное в столице Коломбо, звучало примерно так же жестко и даже, пожалуй, грозно, как в свое время имя Джохара Дудаева в Москве. Симфония чайных ароматов не слышна на острове. Вот уже много лет на нем пахнет войной. Она шла там, где вряд ли могли оказаться многочисленные иностранные туристы.