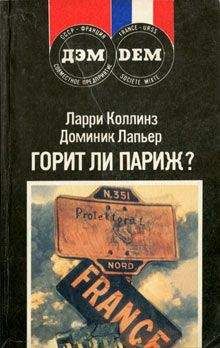Младший лейтенант Джек Ноулз, командир 3-го взвода роты «I» 22-го пехотного полка, и его взводный сержант «Торопыга» Стоун были крайне озабочены в связи с предстоящей переброской в Париж. Командир их роты заявил, что это будет «парад» и они должны будут снабдить своих солдат галстуками. Ни Стоун, ни Ноулз в глаза не видели галстуков с самого отъезда из Англии. Но Стоун был лучшим «доставалой» в дивизии и потому пообещал Ноулзу раздобыть их к утру. «Торопыга» Стоун считал, что Париж стоит парада.
Сержант Лэрри Келли, находившийся в этот момент в тополиной роще на окраине Траппа, был счастлив. Этот белокурый, гигантского роста ирландец из Алтуны, штат Пенсильвания, питал почти мистическую любовь к Франции. В 1917 году, когда ему было 15 лет, он солгал о своем возрасте, был зачислен в армию, восемь месяцев сражался во Франции и был дважды ранен. Он высадился во Франции в день «Д» в составе 82-й воздушно-десантной дивизии, затем был ранен и переведен в полевую артиллерию. Теперь Келли был в восторге от своего назначения передовым наблюдателем американского батальона, поддерживавшего колонну майора Морель-Девиля. Он пообещал себе, что будет первым американцем в Париже. И, судя по всему, обстоятельства складывались так, что это ему удастся.
Когда наступили сумерки, лейтенант Уорен Хукер, командир взвода роты «А» 22-го пехотного полка, взобрался на средневековую наблюдательную башню, находившуюся чуть южнее поля Орли. На вершине у Хукера от восхищения перехватило дух: перед ним лежал Париж, о каждом священном камне которого Хукер читал в книгах по истории и у Александра Дюма. Контуры Нотр-Дам, Эйфелевой башни и Сакре-Кёр казались Хукеру «старыми друзьями». С присущей пехотинцам пессимистичной мудростью Хукер подумал, что ему не суждено будет посетить эти достопримечательности, о которых он мечтал еще мальчишкой. Предназначение его дивизии будет в том, чтобы «пролить кровь в этом городе и двинуться дальше». Хукер с грустью вспомнил строки из стихотворения Роберта Фроста, которое заучивал в школе: «Но я должен обещанья выполнять и мили прошагать, прежде чем лечь спать, и мили прошагать, прежде чем лечь спать».
* * *
На всем участке от вершины холма над Севром на окраине Парижа до краев поля Орли усталые и измученные солдаты 2-й бронетанковой прервали на ночь продвижение к городу. Они этого еще не знали, но последние очаги сопротивления немцев были уже сломлены и не попадутся им до самого центра столицы. Дорога на Париж была открыта.
Почти во всех подразделениях дивизии Леклерка в тот вечер, в который солдаты 2-й бронетанковой надеялись отпраздновать триумф в Париже, были потери. Генерал-майор Хубертус фон Аулок сдержал слово: он заставил эту дивизию дорого заплатить за ключи к Парижу. Вдоль дорог, по которым продвигалась дивизия, ее три колонны оставили печальный шлейф обгорелых машин и мертвых тел. Одна из рот Чадского полка потеряла пятнадцать из шестнадцати полугусеничных машин. 3-я рота 501-го танкового полка потеряла треть машин только во Френе.
Потери и простая усталость снизили боевой дух 2-й бронетанковой. Утешало солдат только то, что до Парижа уже было рукой подать. Их путешествие домой почти закончилось.
Теперь уже ни американцы, ни неполадки в моторе не смогли бы удержать Жана Рене Шампьона из экипажа «Морт-Омм». В эту ночь Париж представлялся ему «спящей любовницей», ждущей, чтобы ее разбудили. Рядом со своим «шерманом» «Норуэй» капитан Жорж Бюи распевал песню, которую сам сочинил в Ливийской пустыне. Его наводчик подыгрывал на губной гармонике. Песня начиналась словами: «Все наши пути — это только шаги по дороге к Парижу». Сержант Марсель Бизьян лениво посматривал на небо и вдруг вслух пообещал, что на следующий день он заставит своих бретонских предков гордиться им. Он так и сделает. Водитель танка Бизьян врежется своим «шерманом» в бок «пантеры» на площади Согласия.
Но ни один из воинов 2-й бронетанковой не испытывал больших чувств по поводу предстоящего освобождения, чем сорокалетний лейтенант Чадского полка, наблюдавший, как занимают исходные позиции подразделения, которые возглавят заключительный рывок в город. При виде высокого белокурого парня, стоявшего в полный рост в проезжающей машине из 97-й штабной роты, лейтенант Рене Берт зарделся от гордости. То был его сын Рай-мон. Два года назад, не сказав ни слова матери, этот загорелый двадцатилетний юноша засунул кое-какие вещи в рюкзак и пешком отправился из Парижа в Пиренеи, чтобы вместе с отцом сражаться в рядах Свободной Франции. Вдвоем отец и сын прошли с боями до ворот Парижа в составе 2-й бронетанковой. В этот августовский вечер в самом городе их ждала Луиза Берт, не знавшая даже, живы ли ее муж и сын, не говоря уже о том, что они находятся всего в 10 милях от дома.
Следя за удалявшимся по дороге в Париж долговязым сыном, лейтенант Берт подумал, что через несколько часов вся семья будет в сборе. И тут ему пришла другая мысль. Завтра, 25 августа, у Луизы именины. «Бог мой, — подумал он, — это будут самые счастливые именины в ее жизни».
К воротам тюрьмы «Френе» двое бойцов ФФИ гнали перед собой угрюмого пленного. Они проследовали мимо победителей из 2-й бронетанковой и далее в замусоренный двор тюрьмы. Для Вилли Вагенкнехта, невольного защитника «Френе», это были самые горькие минуты за всю войну. Он был пойман; его пребывание в Париже закончится в эту ночь там же, где оно и началось, — в тюремной камере.
* * *
Последняя ночь оккупации опустилась на Париж так же, как и первая, — под отдаленную канонаду. На закате этот надвигающийся звук, казалось, висел над горизонтом, словно вздымающаяся волна, готовая обрушиться на город. Обороняющиеся в Париже немцы готовились в своих опорных пунктах к штурму, который мог начаться всего через несколько часов.
Командиры всех тридцати крупнейших «штюцпунктов» поклялись оборонять их «до последнего патрона». То не были пустые слова. Так потребовал сам Гитлер три недели назад. Это был один из редких случаев на Западном фронте, когда фюрер приказывал произносить эту клятву под присягой. Последний раз так было в Сен-Мало. Там, соблюдая ее слово в слово, защитники окруженной крепости оказали союзникам такое яростное сопротивление, какого они больше нигде не встретят к югу от германских границ.
В Париже, окопавшись в некоторых из самых прекрасных зданий города, немцы готовились сопротивляться не менее упорно. В окруженных бараках СС на площади Республики некий штурмбаннфюрер собрал своих людей, чтобы информировать их о подходе двух эсэсовских дивизий. «Мы будем держаться, — объявил он, — пока они не освободят нас». В Военной школе сержант Бернхард Блахе, чьи подчиненные «поджаривались, как сосиски», у здания Префектуры полиции неделю назад, услышал, как майор Отто Мюллер оповещал своих подчиненных, что они будут «сражаться до конца, как приказал фюрер». Затем строем Блахе увели на предбоевое угощение — вестфальской ветчиной. Речь Мюллера и перспектива погибнуть за Военную школу так расстроили Блахе, что к ветчине он так и не притронулся.
В Люксембургском дворце Марсель Макари и электрик Франсуа Дальби наблюдали, как их немецкие пленители баррикадировали здание, готовясь к последнему бою. Дальби знал, что, несмотря на все его старания, немцы в основном завершили минирование этого прекрасного здания. Он опасался, что они взорвут себя, здание и своих пленников. Того же опасались и жители соседних домов. Они торопливо покидали прилегающие кварталы.
В самом важном «штюцпункте» города — в заложенном мешками с песком вестибюле отеля «Мёрис» — человек, которому было поручено оборонять Париж, встречался с подчиненными. Дитриха фон Хольтица захлестывал редко проявлявшийся на публике приступ гнева. Несколько минут назад один из его офицеров попросил разрешения «выбраться из этой мышеловки». Каковы бы ни были его дальнейшие действия, Хольтиц был намерен обеспечить хотя бы одно: держать своих солдат в железном кулаке дисциплины.
Он напомнил стоявшим перед ним офицерам, что все они подчиняются ему. Ему приказано оборонять Париж, и именно это он и собирается делать. Далее он предупредил, что намерен обеспечить выполнение своих приказов, «если понадобится, то и с пистолетом в руках». Потрясенным офицерам он заявил: «Я лично расстреляю того, кто следующим придет ко мне с предложением оставить Париж без боя».
В тишине, наступившей вслед за его словами, Клаус Энгельмейер, доктор из Вестфалии, получивший назначение в Большой Париж, подумал про себя: «Бог мой, он заставит нас всех умереть в этой гостинице».
Дитрих фон Хольтиц стоял перед зеркалом в спальне и рассматривал жесткий, врезающийся в шею воротничок. Было очевидно, что в Париже он поправился. Со времени своего приезда в город он впервые надевал рубашку с жестким воротничком. Позади него на кровати лежал только что отутюженный белый китель, который он через несколько минут наденет к серым форменным брюкам с красными генеральскими лампасами. Фон Хольтиц лишь однажды надевал этот китель — на прием после взятия плацдарма в Анцио, когда отмечал присвоение звания генерал-майора. В этот вечер он надел его для другого приема, своего последнего на многие годы вперед. На втором этаже «Мёриса» в одной из комнат его служебного номера коллеги давали прощальный ужин.