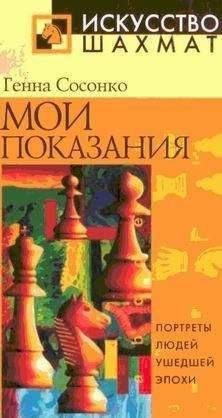Известие о суде над Рубаном и суровом приговоре вызвало в шахматной среде самые разные реакции. Вспоминаю, как Ходоров держал длинную речь, изобиловавшую историческими ссылками и примерами из собственной жизни:
— Видишь ли, в чем дело, Геннадий, — начал он лекцию на тему о мужской любви, — такое встречалось еще у аркадских пастухов. За Женю Рубана же беспокоиться не следует. В лагере Жене только лучше будет, — утверждал Наум Антонович, — такие люди там не работают, за них всё другие делают, а они известно чем расплачиваются. Так что пустили щуку в пруд. Дело это не такое уж необычное. Вот я, помню, служил на Полтав-щине в 36-м году, у нас в обозе был паренек, смазливый такой, Грицко звали, и можешь себе представить, однажды уже после отбоя...
Но не все были настроены на фривольный лад. Альбурту, ушедшему в 1979 году на Запад, дело Рубана виделось в другом свете: «Слухи о поведении Жени на суде, жестокий приговор ему ошеломили и взбудоражили меня и мое окружение, оказали влияние на наше мировосприятие. Думая потом о моем собственном пути в эмиграцию, я понял, что его судьба была одним из толчков, после которого я задумался о том, в какой стране живу. Это стало для меня в каком-то смысле маслом, пролитым булгаков-ской Аннушкой, после чего всё началось и завертелось. Так и случай с Рубаном, получивший огласку в шахматной среде, взбудоражил умы и вместе с начавшейся в те годы эмиграцией, а потом бегством Корчного и других шахматистов раскачал незыблемый, казалось, монолит советской шахматной школы, а потом и всей системы».
Прошло несколько лет после его ареста. И хотя суд над ним стал постепенно забываться, время от времени имя Рубана всплывало в разговорах, в шутках. «Я Рубаном встану», — нередко восклицали шахматисты за анализом, собираясь защищать бесперспективную, пассивную позицию. Это выражение бытовало несколько лет, но потом умерло, как и большинство выражений на злобу дня: приходит новое поколение, с собственным языком, с новым жаргоном и своими ассоциациями, которые неизбежно ждет та же участь.
Говоря о годах, проведенных им в неволе, хорошо бы ограничиться скороговоркой или поступить, как Людовик XTV, распорядившийся о специальном издании классических авторов для своего наследника, выпустив в книге все острые, опасные, с его точки зрения, места. Написать так об этих годах Рубана — значило бы поступиться правдой, ставшей для него тяжкой, мучительной, порой невыносимой.
Тюрьма и лагерь перетряхивают иерархию. В лагере общего режима не было больше аспиранта философского факультета университета, талантливого шахматного мастера и чемпиона Ленинграда; был только заключенный Рубан Е.Н., и каждый знал, за что он угодил в лагерь, и в этой лагерной иерархии он очутился на самой низшей ступени. Произнося последние, полные бравады слова на суде, понимал ли Рубан, что ему предстоит в лагере? Ведь одно дело проводить время с университетским профессором или в скверике с одноразовым партнером и совсем другое, став абсолютным парией, служить предметом забавы и издевательств нередко десятков человек на дню.
Педерастами (они же «козлы», «петухи» и «гребни») в лагере считают только пассивных гомосексуалистов. Активные не являются таковыми в лагерном значении этого слова. Женя Рубан не принадлежал к активным гомосексуалистам.
Девичья — место под нарами, где живут пассивные педерасты. Презрительные клички их — «баба», «курочка», «пеструшка», «дашка», «пидовка», «зойка». Каждый такой человек обязан безотказно сексуально обслуживать любого желающего, если, конечно, не является исключительной собственностью привилегированной группы из 5—10 мужчин. Вступившегося за такого «лидера» или рискнувшего дружить с ним самого ждет та же судьба.
Эдуард Кузнецов, проведший не один год в мордовских лагерях, вспоминал, что «быть активным педерастом — это такая заурядная норма, что для них даже и особого названия нет. Лишь наиболее страстных приверженцев однополой любви зовут «козлятниками», «петушатниками», «гли-номесами» или «печниками» — насмешливо, пренебрежительно, иронически или почтительно. Но никогда — презрительно. Иное дело «пидер», «козел» или «петух». Эти суровые лагерные оскорбления давно покинули лагерную зону и нашли свое место в газете, в эфире, на телевидении и в кино постсоветской России, и многие, употребляя их, даже не задумываются об их происхождении и смысле. В то время как в лагере человек, которого назвали «козлом», должен потребовать веских доказательств, в противном случае оскорбление должно быть смыто кровью. «Козел» должен жить отдельно ото всех, а если и в общем бараке или в камере, то где-нибудь в уголку, у параши. Его кружка-ложка помечены дыркой. «Козла», посмевшего выдать себя за простого «мужика», бьют нещадно, но не до смерти, но если он «канал по первому кругу», то есть прикидывался блатным и ел-пил из одной с ворами миски-кружки, жизнь его под большим вопросом: сотрапезничество с «козлом» — пятно на воровской репутации и, не будучи смыто кровью, может стоить жизни самому вору. «Козел» — безгласное, бесправное орудие удовлетворения сексуальных потребностей, и только в эти минуты прикосновение к нему не оскверняет: днем он — пария, неприкасаемый».
Андрей Амальрик, сидевший в то же время, что и Рубан, правда, по политической 190-й статье, вспоминал, что в оперчасти был список пассивных педерастов — время от времени самых заметных отправляли в другие лагеря, впрочем, их там сразу распознавали. Пишет он и о том, что «активные вели себя по-разному: кто постарше, говорили, что ж, мол, поделаешь, человеческая природа несовершенна, молодые — в духе времени — хвастались этим».
Геннадий Трифонов, так же, как и Евгений Рубан, получивший четыре года и отбывавший срок по 121-й статье, направил в «Литературную газету» письмо, которое, разумеется, никогда не было опубликовано, но оказалось на Западе.
Он писал: «Администрация мест лишения свободы, основываясь на общегосударственной концепции «отношения» к гомосексуалистам, оставляет без всякого внимания их жалобы, позволяя другим заключенным беспрепятственно мучить нас. Подавляющее большинство гомосексуалистов (если только они не молоды, не привлекательны и не подонки по натуре) вынуждены питаться пищевыми отбросами на помойках, им запрещено подходить к общим столам в лагерных столовых, в тюрьмах они вообще голодают. Я, например, за три месяца предварительного следствия — пока меня перебрасывали из камеры в камеру, где я жестоко избивался заключенными и спал на цементном полу по полчаса в сутки, — не ел около полутора месяцев горячей пищи вообще».
Но об этом достаточно. Марк Туллий Цицерон нередко заканчивает так главки своего повествования. Говоря об обстоятельствах жизненного пути Жени Рубана, здесь и там хочется повторить эти, двухтысячелетней давности слова римского философа: «об этом достаточно».
Полный срок Рубан не отсидел: его отправили на «химию». Это была одна из форм советской пенитенциарной системы, означавшая ссылку на поселение. Конечно, эта полусвобода была только другой формой неволи, с обязательным прикреплением к месту работы, которую тоже нельзя было менять без разрешения властей.
Рассказ гроссмейстера, давно живущего вне пределов России, в те годы просто советского мастера: «Я учился в Томске, в аспирантуре, когда в городе неожиданно появился Женя Рубан. До этого я видел его мельком на каком-то соревновании, но по-настоящему знакомы мы не были. Выглядел он неважно, одет был очень плохо. Сначала мы просто встречались, иногда болтали, играли блиц. Женя не скрывал того, что недавно отбыл срок в лагере, куда попал, с его слов, по пьяному делу. Однажды он попросил меня переговорить с руководителем моей диссертации, чтобы тот помог ему устроиться на преподавательскую работу.
С Рубаном встретились мой шеф и ректор университета. В ходе разговора выяснились действительные причины его заключения. «Что же ты меня так подставил, кого ты нам рекомендовал?» — отчитывал меня потом шеф. Приговор ректора был окончательным: "Человека с такими наклонностями нельзя на пушечный выстрел подпускать к студенчеству"».
Когда срок кончится, Рубан вернулся на родину и снова начал играть в турнирах. Его лишили мастерского звания, но не дисквалифицировали, ведь дисквалификация предусматривает объяснение — за что; а о таком ни сказать, ни написать нельзя было ни в каком приказе. С него просто сняли звание; так поступали в России с проштрафившимися попами, только поп-расстрига все-таки оставался попом, в то время как Женя Рубан лишился звания навсегда.
Так как официально он не был дисквалифицирован, запретить Рубану играть в чемпионате Белоруссии начальство не решилось. Поэтому был принят нелепый компромисс: к участию жителя Гродно допустить, но выступать он будет вне конкурса. Рубан выиграл это первенство; вторым, отстав на пол-очка, был тоже гродненский мастер Владимир Веремей-чик. Заседание шахматной федерации республики после победы Рубана было бурным. Многие склонялись к тому, чтобы присвоить ему звание чемпиона, но были и ярые противники. В конце концов возобладало мнение мастера Вересова, заявившего: «Да вы что?! Хотите, чтобы педераст был объявлен чемпионом Белоруссии? Да вы понимаете, как после этого будут смотреть на нас? И в Комитете, и вообще все? Нет, не бывать этому!» И чемпионом был объявлен Веремейчик.