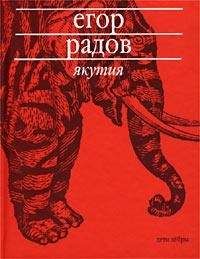Нот там было ровно столько, сколько нужно. Ни лишнего, ни случайного у Моцарта вообще нет. Его зрелые работы почти сплошь окна в царство истины и свободы. Да, разумеется, оно повсюду, но не в каждый момент, да и не каждому удаётся это увидеть. Не всегда и не каждому удаётся ощутить, как гармонично едины в этом царстве глубочайшее страдание и небесная радость.
В плеер, не расставаясь с которым я только что прожил две недели, наряду с моцартовскими концертами было вкачано ещё кое-что, в частности Первая симфония Брамса в неё-то, если вовремя не принять мер, из Моцарта и выносило. Сопоставление оказывалось поучительным. Посмотрите, как Брамс выстраивает кульминацию. То с одной, то с другой стороны на подъём идут группы, каждая многочисленнее всего моцартовского оркестра. Они сплетаются, расходятся, вновь сливаются, наращивают мощь (поневоле подумаешь, что нот, использованных здесь в одной-единственной фразе, Моцарту хватило бы на полсимфонии). Вот они в шаге от вершины но отступают, перестраиваются, снова идут вверх, и тут экстаз, оргазм, землетрясение. А как выстраивает кульминации Моцарт? Да вроде никак не выстраивает. Он ведёт себе дозволенными кругами дозволенные речи, вдруг неуловимый поворот интонации и у тебя горло перехватило.
(Поэтому Моцарта так легко кажется слушать и так трудно исполнять. В техническом отношении для современного музыканта его тексты не представляют, конечно, ни малейшей трудности, но они так совершенно чисты и ясны, что «пятнышки» исполнения режут ухо сильнее, чем дюжина непопаданий в ноты в сонате Скрябина. Малейшая манерность, чуть слышный пережим и хоть плюнуть да бежать: царство истины делает нам ручкой. Господи, как же я ненавижу интерпретации Моцарта!)
Нужно признать: нажатием кнопки перескочив обратно к Моцарту из роскоши брамсовского не поминая о более поздних мастерах звука, не сразу вновь осваиваешься. По контрасту какое-то время чувствуешь себя так, будто в мире выключили цвета. Но это оченбыстро проходит, поскольку выключили-то не цвета, а подсветку: следовавшие за Моцартом гении музыки показывают мир через окрашенные стёкла, Моцарт таким, каков он есть. Прозрачность его письма поразительна абсолютное отсутствие личного стиля, почти недостижимая вершина для любого стилиста. Существование творца видно из наличия творения и ни из чего больше.
Двадцатый концерт Моцарта обычно исполняют с бетховенскими каденциями: авторские не сохранились. Бетховен берётся за темы своего кумира с нежностью и тщанием и обрабатывает их, вероятно, даже с большей любовью, чем это сделал бы автор, и каденции эти чудесны. И по ним можно вообразить, каким был бы этот концерт, напиши его и целиком не Моцарт, а Бетховен. Это была бы потрясающая вещь в прямом смысле затёртого эпитета; это была бы захватывающая исповедь великой души. Но тогда не было бы Двадцатого моцартовского трагичного и светлого рассказа о том, как устроен мир.
Зрелый Моцарт это раз и навсегда данное опровержение всякого пафоса, всякой надменности, всякой истошной серьёзности. Он раз и навсегда преподанный урок, что не нужно быть тварью дрожащей, но и никаких отдельных прав требовать не нужно. Он прост и открыт и, если угодно, готов к разговору с Богом. Да он всё время и ведёт такой разговор и страшно сказать, но всей душой веришь, что Моцарт достойный собеседник. Во всяком случае, один из очень немногих людей за всю историю, про которых хочется в это верить.
После Моцарта написано немало гениальных вещей. Но во всех них, как они ни прекрасны, уже есть «какая-то отрывистость, какое-то разложенье». Со времён того же Двадцатого или Двадцать четвёртого, со времён «Дон Жуана» произведений такой совершенной цельности человек, как справедливо сказано у Гессе, не создавал. (Недолгим исключением стал Пушкин, но здесь речь прежде всего о музыке.) Проще всего объяснить это эгоцентризмом позднейших авторов, поглощённостью их собой и это будет правдой, но не всей. И Моцарт в своих творениях вёл, помимо всего прочего, личный дневник и в последующих поколениях бывали творцы, на удивление свободные от преизбытка эго. Но у Моцарта был совершенно неповторимый дар к счастью, он сам рассказал какой.
Кто-то спросил его, как он сочиняет. Моцарт ответил примерно так: он долгодолго думает, и в какой-то момент оказывается, что симфония лежит у него на ладони, как яблоко, тогда он переносит её на бумагу. Образ поразительной глубины и смирения: симфония легла на его ладонь, но она яблоко, а значит, порождена не им. Её цельность и совершенство как бы не вполне от него.
Она сгусток мировой гармонии, добытый усилиями его ума и души. Подобного дара ни у кого, кажется, более не бывало.
До такой степени не бывало, что многие в него просто не верят. Известно, что увертюру к «Дон Жуану» Моцарт написал в ночь перед премьерой. В первые же десятилетия после его смерти нашлось немало музыкантов, вперебой уверявших, что это легенда, что такую увертюру за ночь написать невозможно. Что невозможно? Написать, в смысле придумать, сочинить разумеется, немыслимо. Но записать уже готовую вещь, перенести яблоко на бумагу отчего же нет? Опытный переписчик нот сделал бы это за октябрьскую ночь дважды.
Известны, кажется, только два случая, когда Моцарт работал совсем не так; две из сохранившихся его рукописей испещрены поправками и вклейками: оперы «Похищение из сераля» и серии из шести струнных квартетов, впоследствии посвящённых Гайдну. Моцарт, вообще говоря, не был новатором в музыке; он писал на языке, принятом в его время и в его кругу том, который музыковеды называют венской классической школой. То, что не очень сведущему слушателю кажется моцартовским стилем, моцартовскими приёмами, суть на самом деле стиль и приёмы венской школы (только у него её изящество и бесконечные репризы обретают глубину и величие, а у большинства его современников нет). Но в этих двух случаях Моцарту потребовалось стать новатором правда, и тут не столько в форме, сколько в сути, и он им стал.
В «Похищении» двадцатишестилетний Моцарт первым сделал то, что и позволило опере стать высочайшим искусством: он первым сделал героев оперы живыми людьми. О тоске в разлуке с любимым в «Похищении» поёт не балованная примадонна, отполированное и вышколенное сопрано, поёт даже не влюблённая девушка вообще, а именно Констанца, несчастная пленница султана. (Говорят, героиня «списана» с невесты автора, Констанцы Вебер.) Это было неимоверным достижением. Конечно, на первый раз характеры вышли не самой тонкой выделки, но уже в «Свадьбе Фигаро» моцартовские персонажи по глубине проработки никак не уступают персонажам Бомарше, а персонажи «Дон Жуана» всего-то через пять лет после «Похищения»! оказались достойны войти в число имён нарицательных, наряду с Гамлетом или Хлестаковым.
«Гайдновскими» квартетами двадцатидевятилетний Моцарт намеревался воздать должное таланту своего друга: подчеркнуть, как ценит работы Гайдна, выведшие квартет, прежде бывший, скорее, способом дилетантского музицирования, на уровень большого искусства. Если говорить только о форме квартета, то Моцарт сделал маленькое чудо, написав их так, как Гайдн в ту пору ещё не умел и только много позже, после смерти младшего коллеги, освоил его новшества. Но о форме я говорить не буду (и не специалист, и больно уж кисло звучат всякие псевдомузыковедческие псевдотермины вроде эмоционального диапазона и развитой полифонической фактуры), поскольку одновременно Моцарт сотворил большое чудо: он открыл философскую музыку. Не знаю, как это объяснять, да, наверно, этого и нельзя толком объяснить. Слова «философская музыка» кажутся оксюмороном, если не надувательством. Но ничего не могу поделать, эти квартеты она и есть. Послушайте их в этом певучем (даже для Моцарта небывало певучем) и гармоничном многоголосии не только скорбь и радость, но и глубина мысли, недостижимая ни для Канта, привычно сидящего тем временем в своём Кёнигсберге, ни для Гегеля, бегающего тем временем в гимназию в своём Штутгарте.
Ну а раз вырвалось слово «послушайте», разговоры пора сворачивать.
И правда, пойдёмте слушать; кто в первый раз, кто в пятый, кто в тысячный неважно. В свои юбилейные дни Моцарт прозвучит ничуть не хуже, чем в любое другое время. Только одно замечание напоследок. Привычная мысль о простоте и доступности моцартовских творений не более чем миф. Они просты в высоком смысле слова (той простотой, что дальше сложности) и совсем не просты в смысле примитивности; наоборот, они бывают предельно изощрены. То же и с доступностью. Очень уж близко Моцарт, как и любая настоящая музыка, «детишек к себе не подпускает» (Томас Манн).
Часто приходится читать, какой это ужас, что от Моцарта в его последние годы отвернулась публика. Стенания эти преувеличены или, возможно, неверно направлены. Что Моцарт из-за охлаждения публики потерял основную часть доходов; что как раз тогда, когда деньги были нужны позарез (сначала серьёзно болела Констанца, потом сам Моцарт), их катастрофически не хватало это и вправду очень скверно. Что же до внезапной нелюбви публики, то горевать тут решительно не из-за чего. Во-первых, она вполне естественна (ср. слова Боратынского о том, как поэты выходят из моды: «Поэт развивается, пишет с большою обдуманностью, с большим глубокомыслием: он становится скучен офицерам, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его всё-таки не проза»). Вовторых, сам Моцарт не больно-то из-за неё расстраивался. Мнения профанов он в грош не ставил и из-за того, что ветреные венцы от него отвернулись, не впадал в сомнения и фрустрацию.