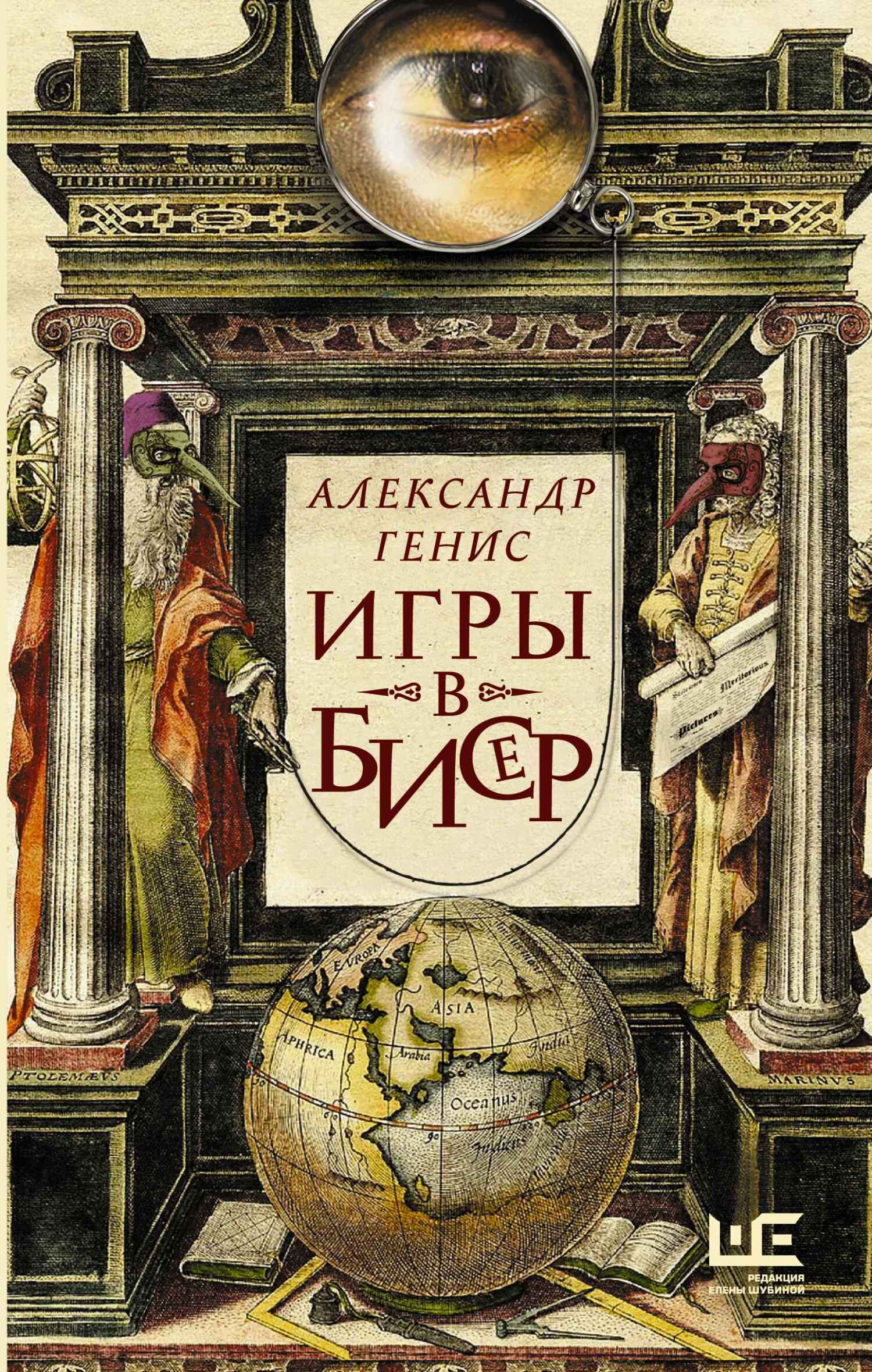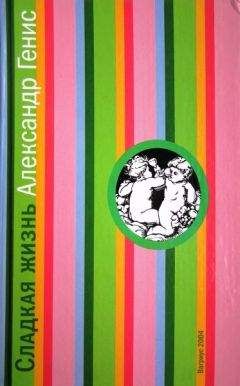футбол без вратаря.
Решусь утверждать, что наиболее ценной частью наследия той лукавой эпохи стали не книги, а их читатели. Это они с азартом обсуждали толстые журналы, в которых тлела общественная мысль. Это они обожали Высоцкого, знали наизусть Галича и до утра пели Окуджаву. Это они внимали Тарковскому. Это они раскупали миллионы умных книг, придумывали анекдоты, шутили в КВН и стояли ночами за билетами на Таганку. Следя за крамолой, они умели ее найти там, куда не добирались опричники, – то в ташкентской “Звезде Востока”, то в бурятском “Байкале”, осмеливавшимся напечатать вторую часть гениальной “Улитки на склоне”.
Всех этих людей Солженицын назвал “образованщиной”, и я люблю его не за это. По Солженицыну, советскую интеллигенцию составлял тот слой образованных людей, который не разделял его мнительные религиозные и национальные взгляды. Но для меня “образованщину” составляли папа с мамой и все, с кем они дружили. Иногда их называли ИТР, и в этом было много правды, потому что от “инженерно-технических работников” обычно требовалось меньше мерзости, чем от гуманитариев, а интересы у них были те же.
Тем обиднее, что Солженицын брезгливо вычерк-нул из соотечественников целый класс, который мы бы сейчас назвали “средним” – со всеми оговорками, которых требовала трудная история, сумасшедшая власть и нетривиальная экономика.
Конечно, ничего среднего в этом “среднем классе” не было – ни в доходах, ни в образовании, ни в интересах, ни в выпивке. Бедность тут компенсировали любознательностью, свободу заменяли дружбой, политику – самиздатом, заграницу – байдаркой. В том мире многого не хватало: выборов, парламента, заграничного паспорта и всегда – денег. Но было и много другого, больше всего – просвещения. Первый сборник Мандельштама я купил на черном рынке за мою двухнедельную зарплату пожарного и до сих пор считаю, что мне крупно повезло.
Проза транзита
Путь и дорога
1. Ж/д
Железная дорога, связывающая пригороды с лондонским Сити, диктовала объем рассказов про Шерлока Холмса. И это значит, что автор точно и заранее знал, когда закончить текст. Размер – первая задача такого опуса. Кто убийца, пассажир должен узнать до того, как приедет в контору. В мерных рассказах Конан Дойла точку ставит не только автор, но и поезд, прибывающий на вокзал. Эта своего рода интеллектуальная зарядка бодрила клерков, как холодный душ, и прекрасно готовила их к безжалостному рабочему дню. Поэтому 20 тысяч читателей журнала “Strand”, где печатались истории про Холмса, отказались от подписки, когда Конан Дойл опрометчиво убил своего героя.
Лишившись любимого чтения, пассажиры вылезли из безопасного кокона детектива наружу, в мир, где все кончается не хорошо, а как получится. Незащищенное литературой перемещение пугало англичан. Говорят, что они для того и придумали газетные простыни, чтобы прятаться от взглядов посторонних и не вступать с ними в беседу.
У русских это не работает – слишком долго ехать. Отсюда знаменитые разговоры в поезде, который исправно служил писателям и их героям исповедальней на колесах. Транзит – неустойчивое, но и освобождающее от оков рутины состояние человека, растянутого на дыбе откровенности между точками А и Б. Временно оторвавшийся от старых корней и еще не пустивший новых, пассажир отпускает себя на волю и снимает забрало перед таким же, как он.
Подслушанные автором монологи служат идеальной завязкой роману. Так принято считать, но сам я такого не слышал и не очень-то доверяю клише о пресловутой русской открытости. Скорее уж в этом можно обвинить Америку. Покупал я однажды червей на рыбалку. Молоденькая продавщица призналась, что боится их сама насаживать на крючок, поэтому за нее это делал молодой человек, который ее оставил, но это и к лучшему, потому что она встретила другого и, может быть, уедет к нему в Огайо, когда мама поправится. Все это я узнал, пока укладывал пенопластовую коробку в рюкзак.
2. Купе
В отличие от пригородных поездов Лондона русская железная дорога вмещает столько разговоров, сколько надо обстоятельному автору. Особенно Достоевскому.
В романе “Идиот” в девять часов ноябрьского утра в поезде Петербургско-Варшавской железной дороги встретились двое молодых людей “с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор”.
“Войти” тут надо понимать почти буквально. Достоевский впускает их в повествование по одному и по-разному: Мышкина – бочком, Рогожина – как быка на корриду. Второй рвется раскрыть душу, у первого за ней ничего и нет. Объединяет их только вынужденная железнодорожная интимность, которая предоставила молодому купцу собеседника, хотя он и нуждался в нем “более механически, чем нравственно”.
Зато в разговоре нуждается всемогущий автор, который заготовил мизансцену торопливой исповеди и обставил ее нужным роману настроением: “Было так сыро и туманно, что насилу рассвело”. (Редактор “Новой газеты” Муратов сказал, что этот вечный пейзаж лучше всего описывает Россию.)
Себя Достоевский вывел за пределы страницы. Его нет в вагоне, но он знает все, что в нем происходит, потому что запустил туда героев, как в барокамеру. Убедившись, что деваться им некуда, автор стремительно повышает психологическое давление, доводя Рогожина до истерических признаний, Мышкина – до нелепых, а якобы случайного попутчика Лебедева – до обязательных в этой прозе вершин самоуничижения. Лебедев – пародия на резонера- всезнайку, он заменяет античный хор, объясняющий нам, зрителям, то необходимое, на что жалко тратить речи главных героев.
Итак, вагон у Достоевского – театр, автор – режиссер за кулисами, повествование движется вместе с поездом и так же быстро.
У Толстого железная дорога задает повествованию другой темп: неспешный, размеренный, медлительный. В “Крейцеровой сонате” рассказчику, а не бестелесному и вездесущему автору некуда торопиться, ибо он сам не знает, куда его занесет медленно разворачивающийся сюжет. “Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили едущие на короткие расстояния, но трое ехало так же, как и я, с самого места отхода поезда: некрасивая и немолодая дама, курящая, с измученным лицом, в полумужском пальто и шапочке…” И так далее со всеми достижениями эпического стиля, под ярким светом которого не остается теней и все видно, слышно, понятно – но не совсем.
Граф, как мы знаем из “Войны и мира”, “любил новые лица”, и здесь он их вводит, ни в чем себе не отказывая. Вагон у него – площадь, форум, агора, открытая для всех мнений. Толстой не мешает нам их выслушать, исподволь готовя аудиторию к тому безум- ному, что прозвучит в финале. Свое “скромное предложение” о прекращении деторождения Толстой маскирует среди других, пусть спорных, но вполне вменяемых высказываний о любви, браке, разводе,