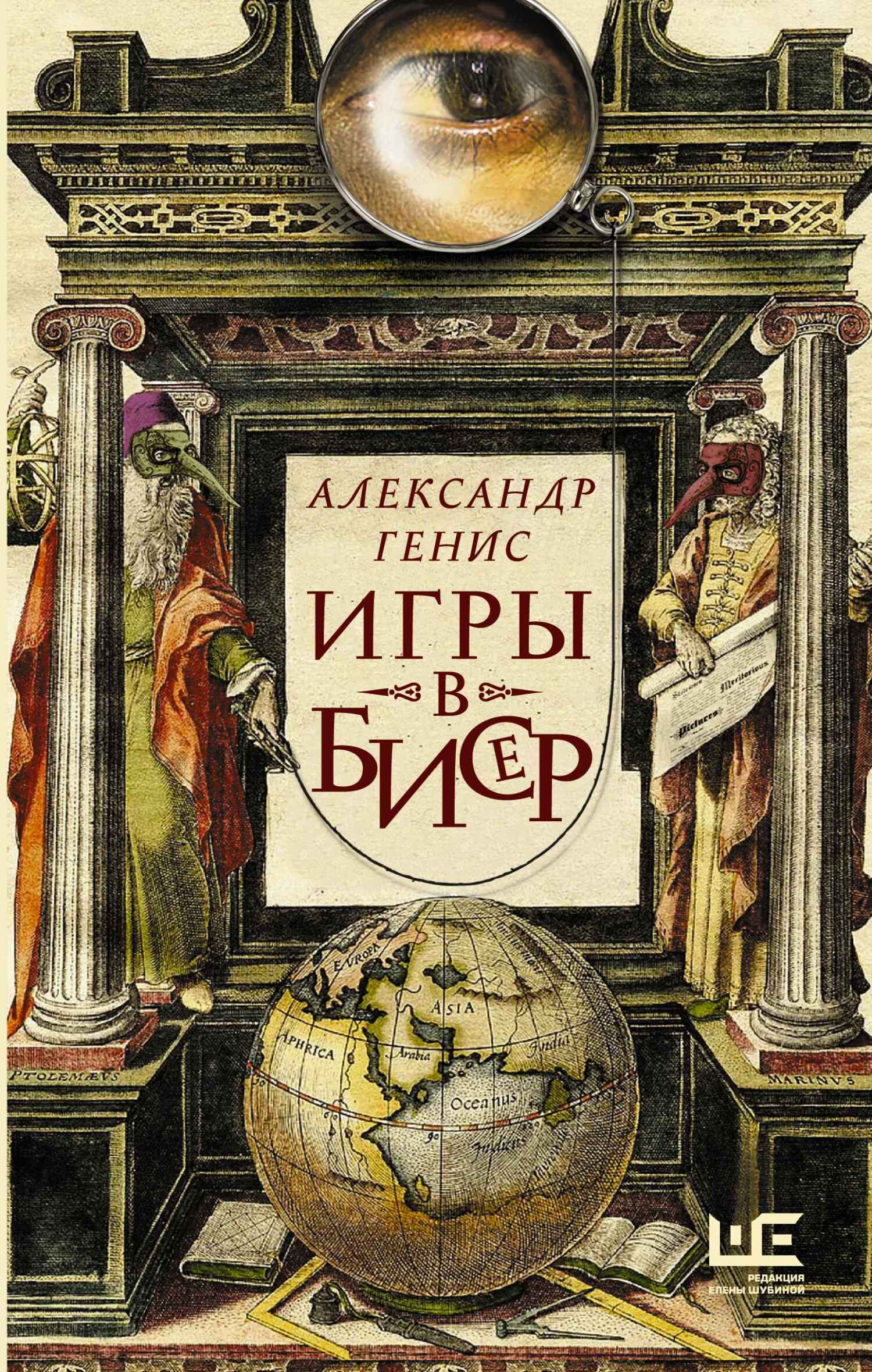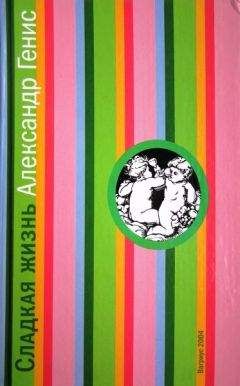новых временах и вечных началах. Всё как в хорошей газете, пока, укачанные перестуком колес и беседой, мы не попадаем в ад, куда, оказывается, нас вез толстовский поезд.
Разница между двумя классиками в том, что если железная дорога у Достоевского – средство истерического реализма, то у Толстого – эпического.
Достоевский, впрочем, о поезде забыл, как только он исполнил свое назначение, дав автору время и место, чтобы набросать портрет центральных персонажей и свести их. Но Толстой, насажав в вагон самых разных попутчиков, представлявших современное общество, усыпил нашу бдительность, чтобы мы не сразу заметили зловещую природу железной дороги, о которой не дает забыть судьба Анны Карениной.
3. Авиа
Самолет плохо приспособлен для прозы, хотя он и усаживает нас еще ближе друг к другу. Втиснутые в свои сидения, мы даже не здороваемся с соседями, охраняя последние крохи частного пространства.
Правда, однажды меня прорвало, но виной тому чрезвычайные обстоятельства. Я летел домой из Москвы на самолете “Finnair”. Друзья накрутили мне в дорогу бутербродов с отечественными деликатесами – икрой, семгой и осетриной. Одному мне было с ними не справиться, а в Нью-Йорке меня ждала бдительная Жучка с таможни, где отбирали всякую привезенную еду. Не видя выхода, я угостил пожилого джентльмена, который мгновенно сориентировался в обстановке. Он что-то сказал стюардессе по-фински, и она принесла корзину игрушечных пузырьков с водкой. До Нью-Йорка я узнал о Финляндии больше, чем за всю предыдущую жизнь. В частности, о том, что русские, выдавив во время войны южных финнов к северным, невольно научили последних говорить, ибо до того те молчали неделями.
В литературе авиация исполняет другие функции. У Аксенова, в классическом рассказе оттепели “На полпути к Луне”, герой, попав в небо, перерождается в погоне за новой, высокой жизнью, в которой есть “девушка-бортпроводница в синем костюмчике”. Летя в самолете, он, будто в мистическом видении, наблюдает за собой со стороны и видит, “как в этом ледяном пространстве над жесткой и пустынной землей плывет металлическая сигара, полная человеческого тепла, вежливости, <…> а где-то в хвосте, а может быть, и в середине разгуливает женщина, каких на самом деле не бывает, до каких тебе далеко, как до Лу- ны”. Чтобы добраться до нее, он семь раз перелетает страну, набирая километраж, обозначенный названием рассказа.
Характерно, однако, что в самолете сказать о пережитом ему некому. И место положенной транзитным жанром исповеди занимает внутренний монолог: “Он стал думать о своей жизни и вспоминать”.
4. Лайнер
Пароход освоен искусством прежде всего как социальный конструкт, о чем рассказал нам фильм “Титаник”. Поставив в решающей сцене корабль на попа, авторы сделали наглядной, словно в марксистском учебнике, притчу революции про верхи и низы. На дно пошли и те, и другие.
В раннем Голливуде лайнеры не тонули. Они были непотопляемыми островами роскоши. Плывя от одного континента к другому, они не замечали покоренного океана, который служил всего лишь надежным изоляционным материалом, ограждающим от земной реальности. Орудия театральной условности, пароходы обеспечивали классицистические единства времени (от берега к берегу) и действия (обычно любовного). Собранные на корабле пассажиры обязаны предаваться досугу, вроде карт и танцев, и обжорству, составляющему главное развлечение на борту. И конечно, лайнеры – идеальное поле для флирта, прежде всего – в кино.
С книгами сложнее. В хрестоматийном “Господине из Сан-Франциско” только Бунин, а не его герои замечает присутствие стихии: “Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал…”
Оторвавшийся от своих безразличных к окружающему героев автор обратил внимание на сам корабль и обнаружил в нем схему не мира, а мироздания. От скучного рая богатых, цедивших “коньяк и ликеры”, он спустился вниз к “мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу”, где “глухо гоготали исполинские топки”.
Беглая карта бунинской “Божественной комедии” создает декорации к странствию господина из Сан- Франциско от жизни к смерти. На обратном пути из Старого Света в Новый его везет тот же самый корабль, но теперь уже героя рассказа “скрывали <…> от живых <…> в просмоленном гробе в черном трюме”. Одно это возвратило океану звание Стикса, пожирающего все твердое, живое и закоченевшее. В этом попятном путешествии даже столь богатая ладья Харона кажется убогой.
Об этом я некстати напомнил капитану нашего круизного лайнера, когда, чтобы развлечь его застольной беседой, спросил, смотрел ли он “Титаник”.
5. Путь
Больше всех наших писателей автомобилем бы- ли одержимы Ильф и Петров. Обменяв бричку Чичикова на моторизованную “Антилопу- Гну”, они посадили в нее жулика, чтобы сделать его более симпатичным и не менее прогрессивным, чем страна, устремленная в будущее. Остапу Бендеру с ней по пути, но лишь до тех пор, как машина не ломается, и он вынужден пересесть обратно на старорежимный поезд. Его сугубо литературный характер подчеркивает галерея пассажиров, сплошь писателей.
Но по-настоящему любовь с автомобилем раскрутилась у авторов в “Одноэтажной Америке”. Кажется, они туда и приехали в первую очередь для того, чтобы посмотреть на подлинную родину машины и проехаться в ней по стране, лучшую часть которой в их глазах представляла дорога. “Мы катились по ней с такой легкостью и бесшумностью, с какой дождевая капля пролетает по стеклу”.
Как обычно, метафора выдает больше, чем собиралась. Уподобляя себя органической капле, авторы словно стелются перед механическим идолом. В его царство они робко втерлись, не оставив, впрочем, следа в силу своей малости и незначительности по сравнению с исполинским деянием: “…эти дороги, подобно дорогам древнего Рима, построены на вечные времена”. Сидя в машине (хоть и не за рулем), они чувствуют себя как “песчинка, гонимая бензиновой бурей”. Но стоит им покинуть автомобиль, как Америка впадает в пошлость, оказывается одноэтажной и недотягивает до идеала, который являет собой deus ex machina.
Я вспоминаю об этом всякий раз, когда вслед за любимыми писателями еду “по федеральной дороге № 9, через Поукипси” подальше от Нью-Йорка, чувствуя, что с каждой милей меня отпускает вечное напряжение жизни и все становится менее важным, чем обычно. По этой дороге я, будто евреи в пустыне, мчусь сорок лет, но так и не добрался до цели. Более того, я даже не знаю, есть ли она, и не представляю, на что она может быть похожа. Что и неудивительно. В Америке у машин есть строптивая черта характера, мешающая им останавливаться.
– Движение – всё, цель – ничто, – бормочут они вслед за Сизифом и несутся, куда глядят фары.
Впервые я узнал об этом еще тогда, когда и