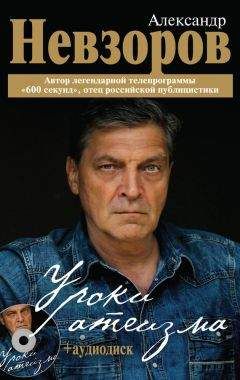Впрочем, для того, чтобы в зеленокаменных пластах Барбертона (юж. Африка) и Стрелли-Пул (западная Австралия) обнаружить следы цианобактерий, требовалось прежде всего точное знание того, что их надо там искать.
А это знание могло основываться только на мощной и доказуемой теории, объясняющей неизбежность плавного и естественного перехода материи из минерально-химического в органическое состояние.
Требовалось понимание того, что жизнь есть непрерывный химический процесс, а разделение его на «мертвый» и «живой» периоды — это не более чем недоразумение, навязанное науке и сослепу ею проглоченное.
Такой теории в начале века, разумеется, еще не существовало.
Но!
Тот, кому предстояло начать ее формулировать, уже примерял фуражку гимназиста. Впрочем, в 1900 году будущему академику Опарину было лишь шесть лет и его больше занимало уженье карасей, чем кризис мирового естествознания.
Второму творцу теории абиогенеза, Джону Бёрдону Сандерсону Холдейну, на тот момент исполнилось восемь. Величие оксфордских стен, в которых он родился и вырос, конечно, уже повлияло на него.
Он ассистировал своему знаменитому отцу физиологу Джону Скотту Холдейну, очень увлеченно мыл пробирки и даже рассматривал альвеолы in vitro, но до теории абиогенеза руки его еще «не дошли».
Будующий Нобелевский лауреат Гарольд Клейтон Юри, которому предстояло экспериментально доказать верность части теории в 1900 году отметил семилетие, уже имея репутацию двоечника и хулигана. Почти все его время было занято выслушиванием нотаций и изобретением способов спасения от очередной порки.
Систематизатор абиогенетической теории, победоносный академик Джон Десмонд Бернал был только-только зачат, и соответственно, ужасно занят прохождением этапов эмбриогенеза.
Рубеж столетий, по всей видимости, он встретил еще без глазок, при хвостике и жаберных щелях. Его жизненное и научное пространство было строго ограничено стенками матки, так что и он никак не мог повлиять на драматические события в ученом мире.
А вот профессор Мартин Герард Руттен, которому предстояло дать теории фундаментальные геологические доказательства, в 1900 году даже и зачат еще не был.
Впрочем, как минимум полтора десятка лет должно было пройти и до рождения Ф. Крика, Дж. Уотсона, А. Корнберга, М. Эйгена, М. Уилкинса, М. Кальвина, М. Перуца, Де Дюва — тех нобелевских лауреатов, чьи работы позволят окончательно отбросить старые определения «жизни».
Именно благодаря им стало возможно принципиально расширить это понятие, и признать, что любое межатомное взаимодействие уже является «жизнью», вне зависимости от того, что является его результатом — простые химические реакции или сложные организмы.
Alias, по тем или иным причинам вся эта великолепная компания никак не могла принять участия в сражениях меж знанием и метафизикой.
Тем временем, преимущество оставалось за мистиками.
Они превосходили естественников численностью и сплоченностью. На их стороне было общественное невежество, церковь, философия, психология, литература, искусство и… большая часть наук.
В частности — физика, биология и геология (по их состоянию на тот момент).
Разумеется, по мере открытия новых значений возраста планеты библейское представление о создании жизни окончательно рассыпалось в прах.
Но, (как мы помним) у креационистов, теологов и виталистов, оставалась в рукаве их метафизическая вечная карта — некое сверхъестественное вмешательство в историю планеты. Да, оно явно было не таким, как его описывает Библия, но где-то пред самым кембрием, оно, несомненно, осуществилось.
Это «некое вмешательство» был очень удобным аргументом. Оно было не опровергаемым, не проверяемым и недоказуемым. Оно не из чего не следовало и ни к чему не вело. Его невозможно было ни оспорить, ни сформулировать.
Над ним, конечно, можно было посмеиваться, его можно было отрицать, но никакого другого объяснения «молниеносной» смены полной безжизненности архея на кембрийское изобилие, кроме «вмешательства», тогда не было и казалось никогда и не появится.
Бог Пастера великолепно подходил на роль метафизического творца жизни.
Любопытно, что здесь (почти) повторилась традиционная религиозная схема «исполнения пророчества».
Явление именно такого бога, как оказалось, было предсказано. И не кем-нибудь, а самим Декартом.
У самого Картезиуса нет никакой краткой и внятной формулировки своего «пророчества», но вот Паскаль, тщательней прочих изучивший Декарта, сумел ее вывести: «Я не могу простить Декарту следующего: во всей философии он охотно бы обошелся без бога, но не смог удержаться, чтобы не дать ему щелчка по носу, заставив привести машину мира в движение. И после этого он уже более никаких дел с богом не имел» Pascal. Pensees. Paris 1852, p. 41.
Чуть позже бог, имеющий отдаленное сходство с «декартовско-пастеровским», явился еще раз, вынырнув уже из квантовой теории. Впрочем, и его век был не долог. Едкая интеллектуальная среда 30—60-х годов ХХ века растворила и этого бога.
Что мы имеем в виду?
Напомню.
Образ «кота Шредингера» «вылез» далеко за пределы физики, став модной словесной игрушкой.
Вместе с тем трудно представить себе что-нибудь более неудачное, чем этот «кот». Шредингер очень хотел создать образ взаимоотношений квантовой и «классической» реальностей, но именно это у него и не получилось.
Глубочайшая неверность предложенного Шредингером образа заставляет признаться Хокинга: «Когда я слышу про кота Шредингера, моя рука тянется за винтовкой».
И дело не в самом Эрвине Рудольфе Шредингере.
Его значимость и авторитетность вне всяких подозрений. Тем не менее, создать удовлетворительный словесный образ квантовой парадоксальности даже для него оказалось не по силам.
Почему?
Отчасти на этот вопрос отвечает другой творец новой физики, Ричард Фейнман. В своем труде «КЭД — странная теория света и вещества» он признает, что мы обречены «употреблять обычные слова в необычном значении».
Б. Бова пишет: «эволюция не подготовила нас в достаточной степени к пониманию таких вещей, как квантовая физика, искривление пространственно-временного континуума, даже возраст Земли сложно воспринять, не говоря уже о возрасте вселенной… Метафоры помогают, но это не более, чем костыль и в большинстве случаев они лишь подчеркивают ограниченность нашего воображения».
Квантовик-биохимик А. Сент-Дьерди идет дальше Фейнмана и Бова. Он почти нащупывает суть вопроса, отмечая, что «по-видимому, в нашем теперешнем складе мышления отсутствует что-то очень важное, целое измерение, без которого нельзя найти подход к этим проблемам».
В чем же дело? О каком «целом измерении» говорит Сент-Дьердьи?
Вероятно, у нас есть ответ на этот вопрос.
Дело в том, что попытка описать квантовые явления с помощью слов, терминов и образов подобна лепке из… ртути.
Невозможно маркировать тончайшие явления теми словами, которые годятся для сказок про «Красную шапочку», для поэм или прескрипций.
У нас, возможно, не плохой язык. Он худо-бедно обеспечивает межлюдские коммуникации и всякие милые глупости, вроде литературы. Но на большее он не способен.
Объяснить иной физический мир с его помощью также невозможно, как дать техническую характеристику «Боинга» используя при этом лишь мычание и хрюканье парантропов, или пересказать Илиаду, при помощи всего двух букв алфавита.
Те слова, что относительно пригодны для описания макромира — полностью обессмысливаются в квантовой реальности и перестают вообще что-либо обозначать. Приспосабливая наши архигрубые формулировки к сверхтонким и малопонятным явлениям, мы прочно запираем от себя смысл этих явлений и искажаем их суть.
Да, других слов и образов у нас нет.
Можно, конечно, хвататься за соломинку сложной терминологии, но как показывает опыт, выручить и она не способна.
Надо набраться мужества и признать, что человеческий язык удручающе беден и не развит. Предъявлять претензии нам не к кому — мы впустую потратили три тысячи лет, развлекаясь земными поклонами, поэмами и самовосхвалением.
Именно бедность и неразвитость языка в ближайшем будущем станет главной проблемой науки, которая будет существенно ограничивать ее развитие.
Почему?
Дело в том, что именно язык устанавливает границы понимания. То, что не имеет никакого словесного обозначения — не имеет и места в мышлении.
(Это особенно обидно с учетом того, что квантовые теории, по всей вероятности, действительно способны дать сверхглубокое и сверхточные расшифровки почти всех явлений физического мира, кроме гравитации.)