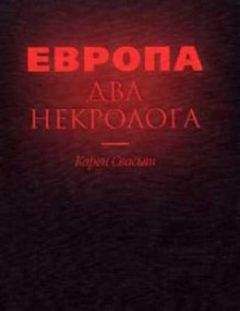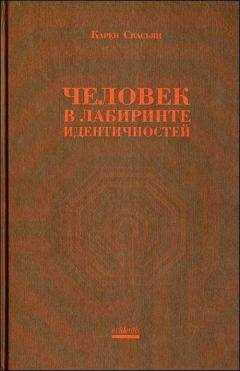Поскольку же и гордый Бог Люцифер составляет часть мира, ему нельзя было бы пожелать лучшей участи, чем предоставить себя в распоряжение «Философии свободы» — в надежде, что он смог бы обрести в ней смысл, осознав в её перспективах свое «дьявольство», как жертву и технически необходимое отклонение в трудном ремесле миросозидания. Ибо в дезинфицированном ариманически мире ему не остается ничего иного, как выйти на пенсию и пугать пугливых однообразно–местечковыми полуимаги- нациями–полугаллюцинациями — в тоскливом ожидании случая, позволившего бы за этим пугалом философски познать и теософски задействовать его аутентичную сущность. Дилемма Люцифера после «Философии свободы»: либо он должен признать в её авторе собственного господина, чтобы гарантировать себе философски серьезное и перспективное будущее в наступающей теософии гётеанизма, либо участь его прозябать в мире научного позитивизма, довольствуясь время от времени крохами со всякого рода мистических и оккультических столов.
Ужаснувшись этой дилемме, он делает вторую попытку, зовя себе на помощь Арима- на. Можно допустить, что на этот раз приманкой послужили ключевые слова из всё той же «Философии свободы»: «Человек должен противопоставить себя идее, как господин, иначе он попадет в рабство к ней». Идея значит Бог. «То, что философы называют абсолютом, вечным бытием, мировой основой, что религии именуют Богом, это обозначаем мы как […] идею». (Из вступительной статьи Штейнера к естественнонаучным сочинениям Гёте)[135].
Если допустить, что перед ясностью и недвусмысленностью этого противопоставления у всех католических, протестантских, православных, буддистских, мистических, академических, нью–эйджных и прочих антропософов должен был бы отняться язык, то лучшей добычи носитель мировой гордости Люцифер не мог бы себе и пожелать. Досадным недоразумением выглядело лишь, что сказавший это «ницшеанец» вел себя так, словно он и не собирался сходить с ума, да, словно намерением его было, напротив, еще глубже, опаснее и неисповедимее входить в ум. Дело шло не об очередной жертве романтики, а о ком–то действительном. Книга «Истина и наука. Прелюдия к Философии свободы» (1892) определяет философский статус действительности. Действительным, в смысле книги «Истина и наука», может быть тот, кто обязан собой, интегрированностью своего существа не потустороннему, а исключительно силе своего познания.
Именно этого действительного и пытается Люцифер (при содействии Аримана) вторично ввести в искушение: если ты, так говорит он ему, и в самом деле тот, за кого ты себя принимаешь, бросься вниз с достигнутой тобою высоты — ты не разобьешься, если только признаешь, что я твоя свобода. — Говоря иначе: если ты взлетел так высоко, что тебе по силам противопоставлять себя Богам, как господина, это значит: перед тобой и над тобой нет больше ничего, на что ты мог бы равняться, никакого прообраза, по которому впредь могла бы формироваться твоя жизнь. Но стоять перед всяким бытием как господин, значит не иметь над собой никакой более высокой инстанции. Пусть так, пусть над тобою нет ничего; но признай тогда хотя бы ничто над собой. Я есмь этот «ничто», мое сокровенное имя гласит: Ничто–не–истинно-всё- позволено[136]. Если ты действительно свободный, проверь свою свободу, дай ей быть господином над тобой. Бросься в меня! . Присутствующий при этом в качестве ассистента Ариман добавил: я защищу тебя от страха! Бросайся же! — Ответом на это второе, внутренне связанное с первым, искушение стала книга «Теософия», в подзаголовке: Введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека.
От читателя потребуются усилия, чтобы примирить ориенталистское заглавие книги с классически–просветительской топикой её подзаголовка. Ему, по–видимому, и в голову не придет спросить: во что он, как читатель, здесь, собственно, вводится? Написано же черным по белому: в сверхчувственное познание мира и назначение человека! Но почва начнет ускользать у него из–под ног, если он станет продумывать этот подзаголовок в свете, падающем на него из книги
«Философия свободы». В смысле «Философии свободы» сверхчувственное познание отличается от чувственного тем, что при последнем сначала находят объект и после наблюдают его, тогда как в первом его нельзя найти и, стало быть, наблюдать, не помыслив, соответственно, не сотворив его сначала. Знак равенства между мышлением и творчество мидентичен с аксиомой штейнеровской теории познания:
её беспредпосылочностью[137]. Если познание беспредпосылочно, значит оно не является отображением чего–то до и вне всякого познания реального (само «реальное», как таковое, оказывается уже неким познавательным результатом), а есть чистый акт творения, creatio ex nihilo. Введение в сверхчувственное познание мира означает соответственно: созерцание творения, или описательнее: в «Теософии»наблюдается то, что в «Философии свободы» мыслится[138]. — Аналогично обстоит дело и с топикой «назначение человека», на которой сорвали себе голоса поколения философов–просветителей.
Если перевести эту топику с языка теологико–метафизических аподиктичностей на язык наблюдения (в призме «Философии свободы»), то она обнаружит себя не менее призрачной, чем старые «энтелехии» и «эссенции». Проще говоря: о назначении человека — в смысле теологических, метафизических, этических, эсхатологических, каких угодно директив — не может быть и речи, покуда человек (NN) не измыслит и сам не назначит себе, а тем самым и миру, цели своего существования, которая в последующих поколениях станет всеобще значимой и общечеловеческой. Мы видим, что теоретически, логически, чисто духовно «Философия свободы» убегает в перспективу абсолютного Ничто. Но теоретически, логически, чисто духовно и значит ведь — люциферически. В «Философии свободы», останься она книгой, не стань она человеком, Люцифер, несомненно, нашел бы козырную карту, бьющую любую другую карту.
Как отставший Бог, Люцифер обожествляет дух и охотно принес бы всего человека в жертву только головному человеку. Гёте оттого и являет минимум люциферичности, что Гёте избегает мыслить то, что он не есть сам. Гёте сам, творя свои творения, есть уже Вертер, Фауст, Мефистофель, Вильгельм Мейстер, Оттилия, перворастение, первоживотное, межчелюстная кость, учение о цвете, покой над горными вершинами. Напротив, максимум Люцифера в Гегеле обеспечен тем, что он мыслит как раз то, чту он не есть сам, больше: чем он не хочет быть сам. Сверхмощное полотно Гегеля, «Феноменология духа», эвоцирует некий дух, который охотнее откликается на понятие Мировой Дух, чем на имя Гегель.
Оба, Гёте и Гегель, примиряются в основном труде Штейнера. Вопрос, сформулированный раньше и в другой связи: что делает автор «Философии свободы» после «Философии свободы»?[139], проясняется в прямом контексте со вторым Люциферовым искушением. Автор, помыслив себя сначала как «Философию свободы», наблюдает затем свою свободно созданную сущность как — духовный мир. «Теософия», или сверхчувственное познание мира, имеет темой ПРАСИЛУ, которая во внешнем мире являет себя как звездное небо, а во внутреннем мире человека одновременно как астрономия. Растение, цветущее вовне, и растение, мыслимое в голове ботаника, различаются между собой не тем, что одно, «там», реально, а другое, «здесь», идеально (со всеми вытекающими отсюда тупиками и апориями последующих шагов), а тем, что в обоих являет себя МИР, один раз на более низкой, другой раз на более высокой ступени своего развития. Этот МИР и есть центральная тема «Теософии», которая созерцает его не в его расщепленности на псевдообъективный фюсис и псевдосубъективную пневму, а как ВНУТРЕННИЙ МИР ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, того самого, кто смог в познании потерять себя как частное Я и найти себя как Я мира, равное назначению человека — осознать себя, как Я, не только в собственном теле, но и в любой вещи, до умения говорить Я, имея в виду другого, не только другого человека, но и любую другую вещь. Люцифер, пораженный абсолютными результатами «Философии свободы», совсем по–сартровски хватается за ничто свободы; еще один шаг вперед («Бросься вниз!»), и освобожденный должен будет, за отсутствием всякой почвы под ногами, отождествить себя с ничто[140], с ницшевским «всё позволено» и уже, в прямой траектории падения, с сартровским «I’homme est une passion inutile».