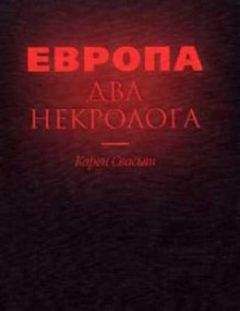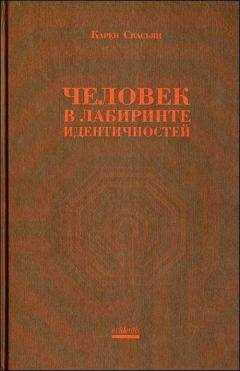Нужно попытаться однажды представить себе шок старого искусителя–вольнодумца, раздувающего мехи мирового органа и воображающего себя этаким надувателем Бога, перед решением освобожденного примкнуть к — теософам и даже стать генеральным секретарем немецкой секции Теософского Общества. Автор «Философии свободы» и «Эгоизма в философии», завсегдатай венских кафе и журфиксов в компании Германа Бара, Фридриха Экштейна, Иозе- фа Брейера, Лауренца Мюллнера, Гуго Вольфа, друг Геккеля, почитатель Ницше и — теософ! Ну, как бы среагировала, к примеру, парижская элитная публика, от Симоны де Бовуар до Мерло—Понти и Раймона Арона, вздумай Жан—Поль Сартр, как раз по написании сжигающего все мосты «Бытия и ничто», вдруг стать — антропософом![141] «Es muB der Zufall in seine Rechte treten» (случай должен вступить в свои права)[142] — случай, а не логика искушения; вступившему в свои права случаю[143] угодно было, чтобы интерес к автору замолчанной немецкими философами «Философии свободы» возник со стороны ряда немецких теософов, ищущих, очевидно, такого знания о «тайном», которое более приличествовало бы их душевности, чем ребячества буддо–британской теософии. Ответом на искушение броситься с достигнутой высоты свободы в бездну духовного и вступить в свои права господина над идеями (при условии, что идеи продолжали бы оставаться платоновскими, т. е. всё еще дохристианскими Богами) стала моральная фантазия книги «Теософия», или решение свободного иметь свое расширенное до мира Я в других, в терпящих нужду ближних (случайно в первом приближении ими оказались теософы), как ИХ свободу научиться однажды воскресать из собственных живых трупов в нетленности своего духочеловека. В зеркале «Теософии» Люцифер видится себе уже не искусителем, а гностиком, стыдящимся своей чёртовой репутации среди детей, богословов, сектантов, моральных теток, поэтов и бездельников. Антропософу, прежде чем он научится представлять антропософию в мире, не позоря её, придется на свой страх и риск переваривать рекомендацию, данную творцом антропософии бывшему чёрту Запада в самом преддверии духовной науки: «Знаменательным символом мудрости, данной нам путем исследования, является Люцифер, носитель света. Дети Люцифера суть все, кто стремится к познанию, к мудрости. Халдейские звездочеты, египетские жрецы, индийские брамины: все они были детьми Люцифера.
И даже первый человек стал сыном Люцифера, так как он через змею научился различать „добро и зло“. Но все эти дети Люцифера могли стать и верующими. Они даже должны были стать верующими, если только верно осмысливали свою мудрость. Ибо мудрость их и стала им „благой вестью“. Она возвестила им божественную первооснову мира и человека. То, что открывалось им силою их познания, было священной тайной мира, перед которой они благоговейно преклонялись, было светом, указующим душам их пути к их назначению. Увиденная в благоговейном почитании, мудрость их становилась верой и религией. То, что принес им Люцифер, светилось перед глазами их души как Божественное.
Люциферу были они обязаны тем, что имели Бога. Делать из Бога противника Люцифера, значит сеять раздор между сердцем и головой. [.] Люциферу не подобает быть чёртом, ведущим исполненного стремлений Фауста в ад; что ему подобает, так это быть пробудителем тех, кто верит в мудрость мира и волит преобразовать её в золото божественной мудрости. Люцифер хочет на равных смотреть в глаза Копернику, Галилею, Дарвину и Геккелю; но и не опускать взора, когда мудрые говорят о родине души»[144].
Тут–то и пробил бедовый час Аримана. Облеченный неслыханными полномочиями вступил этот победитель Европы 1918 года в свою должность. Мы постигаем третье искушение, не усваивая его в пенсуме закона Божьего и не побираясь возле него литературоведчески, а изживая его духовнонаучно. Некая свободная фантазия позволяет перевести цитированную выше Легенду в перспективу, о которой не мог еще ничего знать поэт Инквизитора Достоевский, в перспективу вопроса: а как бы повел себя могущественный римский диалектик, натолкнись он не на мечтательное молчание идеалиста, а на удавшуюся из духа Гёте теософию? Ядро Ариманова искушения лежит в вопросе: чего хотят люди? Формулируя иначе: что предпочтут они скорее, поставленные между обещанием свободы и превращением камней в хлеб? Выигрыш Аримана в этой дилемме гарантирован уже хотя бы тем, что последняя выдумана Люцифером. Третье искушение
— это лишь кармическое следствие первых двух. «Божественный, слишком божественный» ответ: не хлебом единым, отзывается эхом «человеческой, слишком человеческой» поправки: пусть так, но и не единой же свободой. Очевидно, что аксиома Великого Инквизитора, согласно которой свобода по плечам лишь немногим избранным, в то время как для большинства дело идет прежде всего о хлебе, держится на фатальном лю- циферическом высокомерии: ни при каких обстоятельствах не уронить себя до жизненной прозы хлеба. Если свобода — антипод хлеба, то логика старого диалектика неопровержима. Люди хотят хлеба. Баста! Или, если уж на то пошло: они хотят хлеба, потом еще и еще раз хлеба, и только после — свободы, по возможности в чужом исполнении: свободы, как свободного времяпрепровождения.
На хорошем римском: panem et circenses, накорми и развесели. Только в этом диспозитиве, пожалуй, и мог бы трезвый Ариман ужиться с лунатиком Люцифером. Ступать на высоких котурнах и лицедействовать в роли свободных, значит лишь дать сервировать себя как сладкий стол к хлебу насущному. Очевидно, что заточенному в темницу и вынужденному волею поэта играть роль Христа Люциферу Легенды, после того как он опознал себя в зеркале Арима- на «десертом», не остается иного выбора, как гордо и печально, по–лермонтовски, молчать, пока ему не укажут на дверь. Но что означает молчание Люцифера под ураганным огнем Аримановой диалектики? Антропософ может сказать: ожидание искупления. Очерненный в тысячелетиях фольклора, Бог Люцифер ждет своей реабилитации в Христовом сознании. Без очищения Люцифера и искупления его в «Философии свободы» и «Теософии» не может быть и речи о преодолении Аримана. Утратив люциферическое небо над собой, колосс Ариман утрачивает и почву под собственными глиняными ногами. Мы видим, что ариманическая логика хлеба имеет предпосылкой ложь люцифериче- ски понятой свободы. Все компьютерные программы и расчеты рушатся при попадании в них «вируса» духовнонаучно фундированного познания: ОБЕЩАНИЕ СВОБОДЫ И ПРЕВРАЩЕНИЕ КАМНЕЙ В ХЛЕБ — НЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ, А ОДНО И ТО ЖЕ. Тем самым не только прокладывается мост от «Философии свободы» к «Основным чертам социального вопроса», но обе названные книги обнаруживают себя (через посредничество «Теософии») как действие одного и того же первоначального импульса.
В лекции, прочитанной в Дорнахе 17 февраля 1924 года, Рудольф Штейнер говорит о трех составных частях человеческой кармы, соответствующих зависимости человека от растительного мира, животного мира и собственно человеческого мира.
Эти составные части суть, во–первых: хорошее самочувствие, дурное самочувствие, как выражение нашей «растительной» зависимости в эфирном (каузируется Иерархией Начал, Архангелов и Ангелов), во–вторых: симпатии, антипатии, характеризующие нашу привязанность к животному царству в астральном (каузируется Иерархией Сил, Властей, Господств), в- третьих: события, переживания в собственно человеческом мире, определяющие, сообразно судьбе, нашу сознательную жизнь (каузируется Иерархией Серафимов, Херувимов, Престолов). «Здесь нам даны три основных элемента нашей кармы: то, что образует нашу внутреннюю жизнь, наше внутреннее человеческое существование, подчиняется третьей Иерархии; то, что является нашими симпатиями и антипатиями, что находится уже в определенном отношении к нашему окружению, подлежит второй Иерархии; наконец то, что выступает нам навстречу как наша внешняя жизнь, относится к ведомству первой, наиболее возвышенной, Иерархии стоящих над человеком Сущностей». Остается минеральное царство, с которым человек связан физически. Это минеральное царство, однако, не образует дальнейшей составной части человеческой кармы, так как человек не находится в прямой зависимости от неё. Дорнахская лекция от 17 февраля 1924 года развивает тему дальше: «Таким образом, человек в целом независим от того, чем является окружающий его минеральный мир. Он принимает в себя из минерального мира лишь то, что не имеет непосредственного влияния на его существо. Он двигается свободно и независимо в минеральном мире. Мои дорогие друзья, если бы этой свободы и независимости движения в минеральном мире не существовало бы, то не было бы и того, что мы называем человеческой свободой.