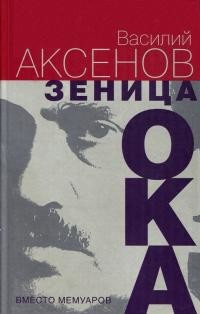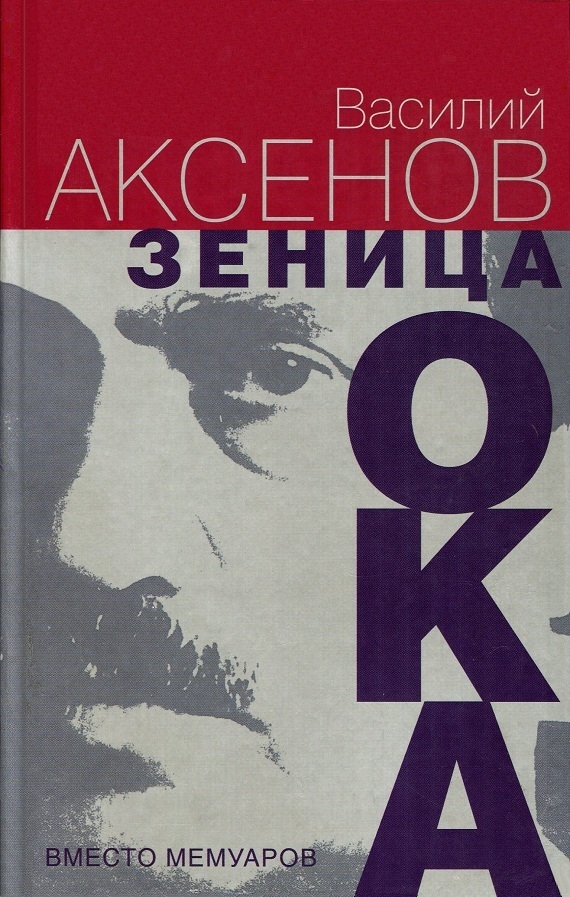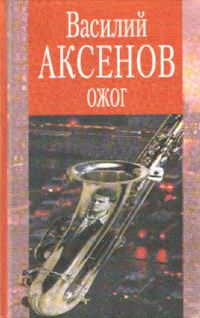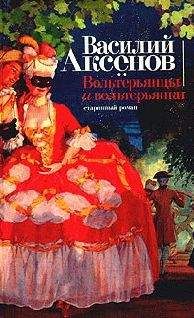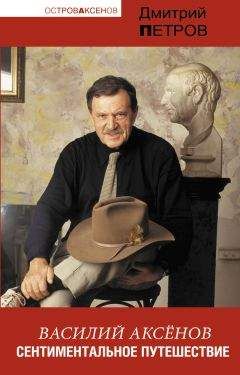У нас тут подобного четырехколесия, как ни крути, не получится, зато, взяв одно лишь — увы! — нерусское слово СААРЕМАА, мы вытаскиваем из него четверку недурных пирамидок и отъезжаем в воспоминаниях на двадцать семь лет назад, в холодное балтийское лето 1966 года. Засим, утрачивая академический plural, уже в качестве героя рассказа отправляемся на эстонский остров, захвативший когда-то в свои сети так много первой гласной.
Посмотрев на карту, всякий увидит, что эта довольно большая часть суши, принадлежащая, кажись, к Моонзундскому архипелагу, западным своим боком выпирает прямо в открытую Балтику, да еще для пущего соблазна вытягивает в сторону Швеции язык песчаной косы с городишком Кингисеппом на кончике. От этой косы по прямой до несоветской территории, то есть до Готланда, было в те времена не более ста пятидесяти километров, не знаю, как сейчас. Недавно, кажется в 1989-м, я провел неделю на Готланде, где не переставал удивляться, как он сильно похож на Сааремаа своими плоскими берегами, конфигурацией и оттенками зелени, а также специфической балтийской меланхолией.
В те времена Сааремаа располагался в режимной пограничной зоне огромного урода по имени Советский Союз. Мне тогда шел тридцать четвертый год, и я был широко известным подозрительным писателем этой страны. Порабощенные прибалтийские страны привлекали меня, может быть, потому, что они тоже были под подозрением.
Между тем главный редактор журнала «Юность», где я больше всего печатался, советский классик Борис Полевой, все уговаривал меня приобщиться, преисполниться, вдохновиться, словом, куда-нибудь поехать. Такова была установка СП СССР: подозрительные молодые писатели, съездив куда-нибудь, то есть оторвавшись от Москвы, обязательно убавят в своей подозрительности, прибавят в народности.
— Отправляйтесь-ка, старик, на Иртыш! Такие характеры могучие, такие горизонты! Дам вам письмо к моим ребятам, вам там всюду будет «зеленая улица»!
— А что это за ребята, БН? — спросил я.
— Федя Артаюшников, секретарь крайкома, Лёня Разбидрак, главный по идеологии, Игорь Шадешко, шеф, ну этого там, ну самого…
— Хорошая идея, — согласился я, — но прежде вы мне командировку дайте на остров Сааремаа. Хочу собрать материал о труде наших советских эстонских рыбаков.
Главный редактор поморщился под вороной челкой:
— Да ну вас на хуй, старик! Что вас туда тянет, в эту Эстонию?
Очень раздосадованный, он прогулялся по кабинету. Несколько раз с каким-то странным как бы вопросом поглядывал на меня. По неизжитой своей комсомольщине он, возможно, все еще полагал себя «боевым пером партии», а не ее сыскным оком, хотя ему не раз, очевидно, советовали как следует присмотреться к некоторым подозрительным молодым писателям. Вдруг просиял:
— Я вам письмо дам в Эстонию к моему другу! Вот такой парень! Отличный парень!
— Письмо письмом, — сказал я, — но туда надо пропуск оформлять по месту жительства. — Мне все-таки хотелось подчеркнуть, что я к их системе «отличных парней» не имею отношения. Заметив, однако, новое раздражение на лице Полевого, я добавил: — Конечно, спасибо за рекомендательное письмо. Он кто, этот ваш друг? Из ЦК Эстонии?
Полевой хохотнул:
— Эх, старик! Да он там председатель одной конторы! — Подмигивая здоровым веком, он погладил себя по плечам, как бы по невидимым погонам, употребив жест, свойственный скорее либеральной, чем чиновничьей среде, все-таки ведь писатель. — Самый главный там, в этом ведомстве, генерал Порк.
Фамилия меня удивила: генерал Свинина, если по-английски. Встреча закончилась к обоюдному удовлетворению: мне были выданы и командировка, и письмо к «отличному парню». Сохраню на всякий случай, подумал я, а вдруг понадобится, если какие-нибудь гады помельче где-нибудь прижмут.
Через несколько дней я оказался в Таллине. Как всегда, пахло сланцевым топливом и пирожными. Хвостатые тучи, как всегда, цеплялись за шпили готики.
Совдеповские лозунги были на непонятном языке, что делало их менее нетерпимыми. Девушки в студенческих фуражечках гуляли по улице Виру. На углу Рыночной площади стоял ленинградский поэт Толька Найман, руки в карманах плаща. Как всегда, он был похож на уменьшенный вариант голливудского героя, Грегори Пэка. Дети блокады, увы, не доросли до задуманных родителями размеров, и все-таки эстонки чуть-чуть приседали при виде поэта. Увидев его, я сразу представил себе, как мы будем с ним сегодня медленно напиваться, из бара в бар, на фоне нашей фиктивной Европы.
Так, разумеется, и получилось. Начав в каком-то подвале с пива под свиные ножки — вот вам и «порк», — мы поднимались все выше к омерзительному в трезвом виде и восхитительному среди пьяной ночи ликеру «Валга». В пьяной болтовне Найман вдруг с изумлением на меня выкатился, когда узнал, что я еду дальше, на запрещенный остров Сааремаа.
— Саааремааа, — прогудел он.
— АААА, — подпел я.
— Послушай, поедем вместе, — сказал он. — Поедем, как Лермонтов и Столыпин-Монго!
Питерские виршеносцы тогда постоянно себе подыскивали классические параллели. То в виде Баратынского какой-нибудь прогуливается, то, глядишь, сворачивает на Вяземского. Этот вот в данном случае, еще без всякого разрешения по месту жительства, уже собрался в лермонтовское путешествие, да уже и присмотрел себе секунданта.
— Тебе туда не доехать, Толяй, — сказал я. — Нужен пропуск. Большевики туда не пускают без пропусков, выданных по месту жительства.
Найман выругался по адресу общесоюзного большевистского правительства. Лермонтов таких ругательств не слыхал даже в казармах.
— Не видать тебе острова, Найман, — сказал я, — потому что ты не хлопотал в соответствующих органах по месту жительства.
— Я — поэт! — заносчиво возразззаааллил… Тряска на странице возникает от двигателей «Королевы Елизаветы» в середине Атлантики. Кресло на верхней палубе. 9 июня 1993 года…заносчиво возразил он.
— А я не поэт, что ли? — парировал я. — Однако я всегда хлопочу по месту жительства. Вот ты Лермонтовым назвался, а за него бабушка всегда хлопотала по месту жительства.
— Вот это и кончилось паршиво, — пробормотал Найман.
— А Пушкин сам за себя всегда хлопотал по месту жительства, — добавил я.
— Вот и это кончилось паршиво. — Найман посерел, отвернулся и стал глотать слезы. В то лето, первое лето после кончины Ахматовой, ему все время было паршиво.
Всю ночь сквозь сны я пробирался к дурацкой фразе: «Прозаик — это поэт по месту жительства», с этой фразой и проснулся. Позвонил Найману — тот тоже, даром что поэт, добыл себе комнату в гостинице — и сказал, что есть вариант «От Весеннего-Горизонта к Акробатке». Эту «внутреннюю шутку» нынешний читатель вряд ли поймет. Найман тоже сначала не понял. Ну есть некий шанс в преддверии заката, пояснил я, скорее уж не ему, а нынешнему читателю. Какой шанс? Довольно зловещий, но все-таки. Позвоню сегодня генералу. Какому еще генералу? Ну местному одному, генералу Порку. Не бывает таких генералов. Вот именно бывают, в европейских странах есть такие генералы.
Не знаю уж, что тут сработало: полевойское ли имя или просто в напрочь замиренной Эстонии генералу Порку в тот день не хера было делать, однако он тут же оказался на проводе. Больше того, пригласил зайти прямо сегодня, часикам к-к-к четырем.
Совершенно не помню имени-отчества этого генерала, но не исключаю, что он был Август Иванович. Тут со мной еще один ленинградский поэт, Август Иванович. Очень хотелось сказать «поэт-тунеядец вроде Бродского», однако сдержался. Он тоже задумал цикл стихов о рыбаках советской Эстонии. Заходите оба, часикам к-к-к четырем. Вместо «оба» у него получалось «опа», все вместе звучало слегка по-японски, но понятно.
К назначенному часику мы направились по назначенному адресу на улицу Пикк, где неподалеку от церкви Олевисте располагался штаб вооруженного отряда партии большевиков. Нас проводили на третий этаж, там в приемной под портретом козлобородого сидел здоровенный эстонец в штатском. Помнится, у него были сильно развитые надбровные дуги и слабо развитый нос. Одутловатостью щек он напоминал какого-нибудь пьющего бывшего чемпиона по декатлону, какого-нибудь Хейно Липпа, если это не был сам Липп. В общем, мужик мужиком, но все-таки какой-то не совсем наш мужик, не российский. Соломенные волосы у него потемнели у корней от плотного зачесывания с бриолином.