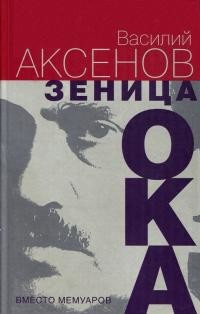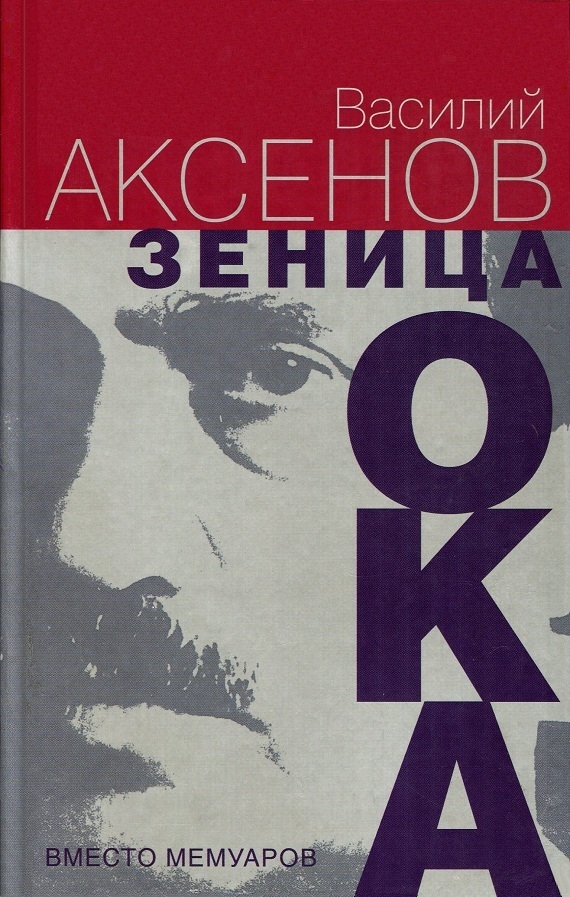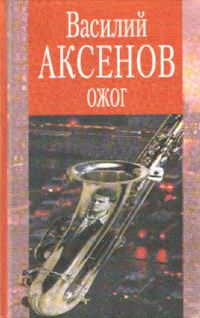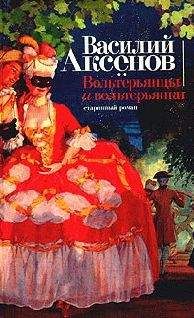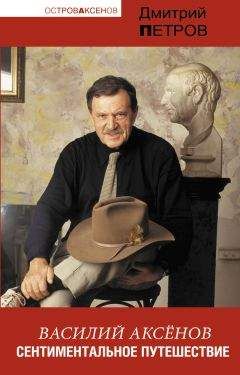Он видит: темная большая колбаса
Плывет над садом. Дикая картина,
Не черт, не шут, акула, но без жабр…
Тут слышится над ним басок партийный:
Се гордость родины, советский дирижабль!
Неделя не прошла, как в том же небе —
Июльско-серый свод над купами дерев —
Восьмимоторный монстр, кумирня плебса,
На Азию прошел, триумфом проревев.
Ребенок созерцал свой переулок главный,
Свой главный окоем и в центре главный дом,
Тот обреченный дом Евгении и Павла,
Где рост его отмечен был мелком
На дверце спальни, где ружьем с липучкой
Был он к пяти годам вооружен
И где в конце концов замок сургучный
Чекистом тихим был сооружен.
Следовательские подписи под протоколами допросов: Бекчентаев, Елынин, Веверс — безымянная чекистская шелупень, обретшая имена и даже лица благодаря одной из множества их подследственных, отправленных либо на Колыму, либо в подвал, где тюкали пачками для выполнения плана террора. Сволочь сереньких папочек с кальсонными тесемками, превратившаяся на страницах «Маршрута» из мерзостной чернильной размазни в персонажей кириллицы, латиницы и японских иероглифов. Не подозревая о будущей трансформации, хмыри подшивали к делу фотографии своего автора, которого они наверняка между собой называли «эта евреечка». Анфас и в профиль. Ей было тогда тридцать два года. Взгляд затравленного подростка, бабушкина «кофтюля» на исхудавших плечах.
Переворот еще нескольких страниц, и из дела выпадает фотография «троцкистского» демона казанской интеллигенции, профессора Эльвова. Я столько раз слышал это имя, а вижу его впервые. Круглая, несколько бабелевская, физиономия, во всяком случае, истинно бабелевские круглые очки. Шевелюра, однако, не бабелевская, густая и волнистая. Рубашка без воротничка. Как они поступали с отобранными воротничками? Социалистическая законность, очевидно, требовала заприходовать всякую мелочь. Тщательный поиск может обнаружить на «Черном Озере» и воротничок профессора Эльвова. Снимки сделаны, должно быть, еще до начала пыток. И профиль, и фас еще хранят ироническое недоумение, то самое радековское выражение лица, которое так ненавидел Сталин. С этим антисталинским выражением лица, с чемоданами философии и джазовых патефонных пластинок, в очках европейской «левой», член оппозиции прибыл в ссылку, в Казань. Это было в начале тридцатых, в год моего рождения или чуть позднее.
Тихо жужжит закрепленная на штативе камера. Оператор в майке американского университета весело подмигивает: «Больше трагизма, Василий Павлович!»
Жив ли еще трагизм в грязно-кальсонной папке? Первоисточник симфонии «Маршрута». «Когда б вы знали, из какого сора…» Клаустрофобия гэбэшного архива распахивается на Колыму. Недаром мать особенно любила строчку: «Остальных пьянила ширь весны и каторги». Так поет трагедия. В конце пути возникает Франция. Только там, быть может, ей удалось хоть ненадолго забыть этот советский архив.
Из инвентарного списка реквизированных
при обыске квартиры вещей:
Костюм суконный, хороший.
Пальто женское, с меховым воротником.
Патефон, сто пластинок.
Игрушки детские, один ящик.
Полные собрания сочинений Л.Н.Толстого,
А.П.Чехова, А.С.Пушкина, Ф.М.Достоевского, И.Канта…
«Вещи в себе», солидные издания «Академии»,
Увязаны шпагатом в чекистский бант.
С Достоевским все ясно, русская эпидемия,
Однако при чем здесь профессор Иммануил Кант?
Познать непознаваемое, экая премудрость!
Сделал опись при понятых, наляпал сургуч.
Что бы там ни говорили ницшеанские Заратустры,
Ленин был прав, внедряя наш «Всеобуч»!
Изъятая философия перестает философствовать,
Превращается просто в объем и вес.
Человек подлежит дознанию, тщательному следствию.
Собака любит мясо, а лошадь овес.
Из маминой папочки папочкины выпадают некоторые заявления и письма. Значит, несмотря на изоляцию супругов и десять тысяч километров тайги и тундры, между их папочками в Казанской гэбухе существовал контакт. Вот и фото отца лагерного периода, анфас и в профиль, суворовский хохолок, в губах ирония, но не радековская, а общенародная, которая, быть может, его и спасла. Здесь же справка об ударной работе в управлении «Интауголь». Равнение на передовиков! Красная сволочь даже не думала о цинизме таких наград. Напротив, они ей казались проявлением человечности.
Наконец из папочки выявляется и сам почти почетный посетитель, ныне почти почтенный писатель, снимаемый в данный момент для биографического фильма. Совершенно секретно. Март 1951 года. МГБ Татарской АССР запрашивает из Магаданского отдела МГБ копию дела Е.С.Гинзбург в связи с началом разработки ее сына Аксенова В.П., студента первого курса Казанского мединститута.
Так они начали и меня работать,
Хряки пролетарской революции, дети Свиньи,
В шевиотовых, с лампасами, штанах санкюлоты,
Матери своей многососковой похрюкивающие сыны.
А я разгуливал в закатный час по Казани,
Чьи шпили предполагали на Западе и Нью-Йорк, и Париж,
Уже подготовленный к революционному наказанию,
Не подозревающий, что вместо судьбы мне приготовлен шиш
Этой ебаной революции и воронок трехтонки…
Через сорок с чем-то я молча воплю:
«Не получилось, суки!»
По матери, и по отцу, и по профессору Эльвову на гэбэшные картонки
Я слезы невидимые, но сверхкислотные лью
И задыхаюсь от скуки.
АААА
Потому-то рыдают гитарные струны,
И сбегают пастушки прекрасны и юны
С незнакомого прежде холма.
Анатолий Найман. «Гобелен»
Посмотрев на заголовок, читатель может вспомнить, что такое же количество гласных употребил Гоголь в качестве своего юношеского псевдонима, только там они отличались округлостью: ОООО. Юнец, как известно, растянул свое имя во всю длину, превратившись таким образом из двухсложной уточки Того в большущего журавля, именуемого Николаем Васильевичем Гоголем-Яновским. Затем, к полному своему изумлению, он обнаружил в этой продолговатой фигуре четыре «О» и сделал их своим псевдонимом. Эта проделка говорит немало как о тщеславии юнца, так и о не остывшем еще удивлении собственной персоной.