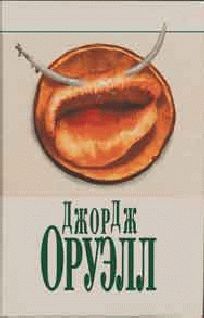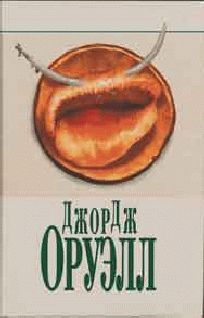Лишь бы не казаться молодым, лишь бы выглядеть старше своего возраста. К неопытности он относился с презрением, невинность ненавидел, ставил ее наравне с глупостью. Он не хотел стать чьей-либо жертвой, и даже тогда выставлял напоказ свою раннюю зрелость, когда в ней никто не сомневался. Он напоминал школьника, который впервые в жизни закурил сигарету и собрал вокруг себя товарищей, чтобы подбить их на то же самое. Виланд же был влюблен в невинную пору своего детства, она виделась ему идиллией. Ему удалось утвердить себя в циничном Берлине. Беззащитным он не был, в его распоряжении были все необходимые приемы самообороны, он доказал свою способность к так называемой борьбе за выживание, для которой нужны твердость и в еще большей мере хладнокровие. Но утвердить свое достоинство он мог только в одном случае: если цепко держался за образ невинного мальчика-сироты, каким он когда-то был. В своих воспоминаниях он все еще оставался мальчишкой. Иногда мы вместо работы отводили душу в таких разговорах. Несмотря на всю нашу занятость — а человек в Берлине всегда занят чрезвычайно, — мы, сидя за круглым столом в чердачной комнатке, забывали о предмете наших занятий, Эптоне Синклере, и говорили о юности Виланда. Ему и сейчас было только тридцать два года, но нынешнего Виланда от Виланда пятнадцатилетней давности отделяло огромное расстояние.
Он показывал мне все, в первую очередь людей, которых можно было увидеть в Берлине, с такой непосредственностью, будто он сам только что оказался в этом городе. Ему нравилось видеть мое изумление, но он не отличался особой наблюдательностью, его занимал не столько я, сколько он сам в ту пору, когда он был в моем возрасте. Мне было приятно, что он никогда не унижал меня и всюду представлял своим «другом и сотрудником». При этом он был знаком со мной всего лишь несколько дней, и я еще ничего не успел для него сделать. Он не требовал от меня доказательств моих литературных способностей, не читал ничего из написанного мной, вероятно, это было ему в тягость (удивительно, но он, издатель, с которым меня связывали самые добрые и самые тесные отношения, ни в то время, ни позже не опубликовал ни одной моей книги). Ему было достаточно наших разговоров. Кое-что он узнал обо мне от Ибби, кое-что рассказал я сам, но главным для него было то, что в своем Берлине он мог поведать мне о своей невинности, о любви к своему детству, а также то, что я внимательно слушал его. Я завоевал его дружбу благодаря своему умению слушать, мне сейчас трудно сказать, делал ли я это из хитрости или же просто потому, что всегда любил слушать людей, рассказывающих о себе, эта на первый взгляд тихая, незаметная страсть так во мне сильна, что составляет глубочайшую суть моей жизни. Я просто умру, если не буду слушать то, что люди рассказывают мне о своей жизни.
Почему я так много ждал от Гроса? Что он значил для меня? С тех пор как в витрине магазина молодежной книги во Франкфурте я увидел его рисунки, прошло шесть лет, но я не переставал восхищаться ими, хранил их в своей памяти, а ведь шесть лет для молодости — срок немалый. Его рисунки с первого взгляда запечатлелись в моем сознании. Точно такие же чувства обуревали меня после того, что я увидел в годы инфляции, после визита господина Хунгербаха[177], после глухоты матери, не желавшей обращать внимание на то, что происходило вокруг нас. Мне нравились его рисунки — резкие, грубые, беспощадные и страшные. Он изображал крайности, а крайности я почитал за истину. Правда примиряющая, смягчающая, объясняющая и извиняющая была для меня не в счет. О том, что такие, как на его рисунках, люди существуют, я знал, знал с детских лет, проведенных в Манчестере, когда моим врагом стал — и остался им навсегда — дядя Огер[178]. Когда некоторое время спустя я слушал в Вене Карла Крауса, впечатление было точно такое же, с той лишь разницей, что я, избравший своим поприщем литературу, начал подражать Краусу, учился у него искусству слушать и в какой-то мере (не без внутреннего сопротивления) риторическим приемам обвинения. Георгу Гросу я не подражал никогда, я был начисто лишен таланта рисовальщика. Правда, я искал и находил в реальной жизни его характеры, но между его и моим способом воплощения действительности всегда оставалась дистанция. Его искусство было мне недоступно, он говорил на другом языке, который я хотя и понимал, но не умел воспользоваться им в собственном творчестве. Это значит, что он никогда не был для меня образцом. Он был объектом величайшего восхищения, но не примером для подражания. Когда я впервые появился у него, Виланд по своему обыкновению представил меня как своего «друга и сотрудника». Благодаря этому я не выглядел в собственных глазах слишком уж ничтожной личностью. Я не подумал о том, что Грос отлично знает всех друзей Виланда и легко поймет, что я не из их числа. В Берлине я появился неожиданно, никаких разговоров обо мне не было, просто Ибби сообщила о моем скором приезде из Вены — только и всего. Но моя неуверенность в себе улетучилась, как только Грос начал показывать свои рисунки. Я мог рассматривать вещи, которые только что были созданы. У Гроса вошло в привычку показывать рисунки Виланду, который их публиковал, представляя на суд общественности. Они вместе отбирали рисунки для публикации, и Виланд придумывал им названия. Вот и сейчас он, по обыкновению, придумывал подписи. Делал он это сразу, без колебаний. Грос без лишних слов соглашался, ведь названия Виланда обеспечивали успех его рисункам.
На нем была мягкая шерстяная куртка, он, не в пример Виланду, выглядел крепким и загорелым. С неизменной трубкой во рту, Грос походил на молодого морского волка, только не на английского, поскольку любил поболтать, а на американского. Он был сама откровенность, сама благожелательность, поэтому его костюм не показался мне маскарадом. В его присутствии я чувствовал себя раскованно, что бы он ни показывал, все вызывало во мне восхищение. Это радовало его, будто мое восхищение и впрямь что-то для него значило, время от времени, когда я высказывал свое мнение о том или ином рисунке, он одобрительно посматривал на Виланда. Я чувствовал, что попадаю в точку, тогда как в присутствии Брехта мне рта не удавалось раскрыть, чтобы не вызвать его раздражение. Грос относился ко мне с интересом и симпатией. Он спросил, знаю ли я его серию «Ессе Homo», Я ответил, что нет, ведь она запрещена. Тогда Грос подошел к ларю, открыл крышку, достал папку с рисунками и как ни в чем не бывало протянул мне. Я подумал, что он дает ее мне посмотреть, и тут же раскрыл папку, но меня поправили: я могу сделать это дома, папка мне подарена. «Такой подарок достается не каждому», — заметил Виланд, знавший импульсивную натуру своего друга. Он мог об этом и не говорить, я подмечал любое проявление людского великодушия, но то, что сделал Грос, меня поразило.
Чтобы не выглядеть смешным с папкой в руках, я отложил ее в сторону и не успел договорить до конца слова благодарности, как появился еще один посетитель, которого я менее всего ожидал и хотел здесь увидеть. Это был Брехт. Он пришел выразить свое уважение, едва заметно поклонился и подарил Гросу карандаш, самый обыкновенный карандаш, который, однако, был положен на рабочий стол с многозначительной миной. Грос принял этот скромный знак внимания, придав ему особый смысл. «Карандаша-то мне и не хватало, — сказал он. — Пригодится». Этот визит нарушил состояние восторга, в котором я пребывал, но мне было интересно узнать Брехта с другой стороны. Таким, значит, он был, когда хотел выразить свое расположение. Его сдержанная, скупая манера держаться производила впечатление. Я спрашивал себя, как к нему относится Грос, любит ли он его. Брехт долго не задержался. Когда он ушел, Грос как бы между прочим бросил Виланду фразу, предназначенную, похоже, для меня: «У европейского рагу нет времени». Это прозвучало беззлобно, быть может, с легким оттенком сомнения, будто у него было несколько мнений о Брехте, и все они противоречили друг другу.
Распрощавшись в Гросом, мы пошли в разные стороны: Виланд отправился в редакцию, а я подался в свою мансарду, где меня ждали на круглом столе материалы о жизни Эптона Синклера. В сравнении с тем, что он раскопал как «muck-raker», как «разгребатель грязи», его собственная жизнь выглядела скучной. Скука шла не от обстоятельств жизни, ему приходилось нелегко, а от прямолинейности взглядов. Он был человеком насквозь пуританских воззрений, и хотя в этом я мало чем от него отличался, хотя я всей душой одобрял его выпады против пороков общества, против унижения и несправедливости, этим выпадам все же недоставало сатирического блеска. Неудивительно, что я не сел тут же за работу, а открыл папку с рисунками «Ессе Homo»: там я нашел все, чего так недоставало Эптону Синклеру.
Серия была запрещена как непристойная. Не стану отрицать, кое-что в ней действительно могло показаться скабрезным. Я впитывал все это со странным смешанным чувством ужаса и одобрения. На рисунках были изображены отвратительные создания ночной жизни Берлина, но такими, думалось мне, они были лишь потому, что их создатель испытывал к ним отвращение. Гадливое чувство, возникавшее во мне, когда я на них смотрел, я принимал за отношение к ним самого художника. Пока еще я мало знал о нем, в Берлине я был не больше недели, и Грос оказался в числе первых, кому я нанес визит. С Брехтом меня познакомила в ресторане Шлихтера Ибби, он был поэт, и она считала его самой интересной берлинской достопримечательностью. Мы ходили туда ежедневно, Брехту нравилась Ибби, но она каждый раз тащила с собой меня, вероятно поэтому я стал мишенью его язвительных насмешек. Но и Виланд не прятал от меня своих друзей, Грос был для меня несравненно интереснее, и уже на шестой день моей жизни в Берлине состоялся этот визит к художнику.