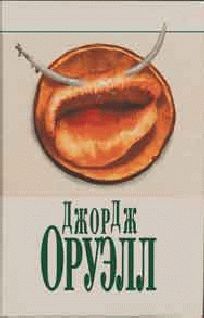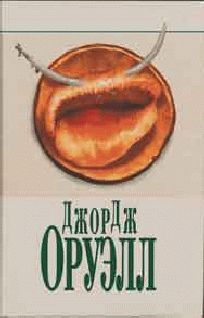Джон, по-моему, был самым опрометчивым человеком на свете. Он весь был соткан из резких, неожиданных порывов. Задумывался он только тогда, когда работал над своими монтажа-ми. А поскольку, в отличие От многих, он не был все время погружен в расчеты, непосредственность и горячность не покидали его. В его выпадах были вспышки гнева, но гнева отнюдь не эгоистического. Он усваивал только то, что воспринимал как посягательство на себя, и чтобы узнать что-то новое, он был вынужден от него защищаться. Другие пропускают это новое мимо ушей или глотают его, как сладкий сироп. Джону же приходилось набрасываться на него, чтобы удержать в памяти и сохранить остроту восприятия.
Только со временем я понял, до какой степени братья нуждались друг в друге. Виланд никогда не критиковал Джона. Он не пытался оправдать его необычное поведение, объяснить его, а принимал как должное. Лишь когда он рассказал мне о своем детстве, я понял, что лежало в основе этой привязанности. Их было четверо сирот, два брата и две сестры, когда они оказались в доме приемных родителей, живших в Айгене, близ Зальцбурга. Виланду с приемными родителями повезло, а старшему, Гельмуту (так звали Джона до того, как он взял себе английское имя), пришлось труднее. Они никогда не забывали о своем сиротстве и крепко держались друг за друга. Сила Виланда была в привязанности к старшему брату. Вместе они обосновались в Берлине. Протестуя против войны, Гельмут официально поменял имя и фамилию и стал Джоном Хартфилдом. Война еще не кончилась, и этот шаг требовал мужества. Георг Грос, с которым их свела судьба, стал им близким другом. Вполне естественно, что когда было основано издательство «Малик», Джон Хартфилд стал делать эскизы обложек. Братья жили порознь, своими семьями, но всегда держались вместе. В бурной, необыкновенно насыщенной берлинской жизни они были неразлучны.
Первое, что бросилось мне в глаза при виде Брехта, была его страсть к маскировке. Меня повели в ресторан Шлихтера, где вращался весь интеллектуальный Берлин. Здесь бывало великое множество актеров, на них то и дело указывали, их тут же узнавали, благодаря иллюстрированным журналам они были как бы частью общественной жизни. Надо сказать, в том, как они себя вели, как здоровались, делали заказы, как ели, пили и расплачивались, было все же не очень много театральности. Картина была пестрая, но это была другая пестрота, не театральная. Единственный из всех, кто обращал на себя внимание своей маскировкой под пролетария, был Брехт. Он выглядел очень тощим, голодное лицо из-за кепи казалось слегка скошенным набок, говорил он отрывисто и нескладно. Под его взглядом я почувствовал себя ненужной вещью, принесенной в ломбард, а в нем увидел оценщика, прикидывающего своими колючими черными глазками, кто чего стоит. Брехт говорил мало, узнать что-либо о результатах оценки было невозможно. Казалось невероятным, что ему только тридцать лет, он выглядел не так, как выглядят рано состарившиеся люди, а так, будто он всегда был стариком.
В те недели меня не оставляла мысль о старом оценщике из ломбарда. Она преследовала меня хотя бы уже из-за своей явной нелепости. Мысль эта подкреплялась еще и тем, что Брехт ничего так не ценил, как полезность, и всеми способами давал понять, до какой степени он презирает «высокие» убеждения. Под полезностью он понимал нечто практическое, прочное, нечто англосаксонское, в духе американского прагматизма. Культ Америки пустил в то время глубокие корни, особенно в среде левой интеллигенции. По количеству световой рекламы и автомобилей Берлин напоминал Нью-Йорк. Больше всего на свете Брехт любил свой автомобиль. В том, как воспринимались книги Эптона Синклера, вскрывавшие социальные пороки, была известная двойственность. С одной стороны, здесь с пониманием относились к общественной позиции, с которой подвергались бичеванию указанные пороки, с другой — впитывали в себя тот самый американский образ жизни, из которого эти пороки вырастали, и связывали свои надежды с ростом и укреплением американизма. Так случилось, что Чаплин в то время работал в Голливуде, и его успехам, даже в атмосфере той поры, можно было со спокойной совестью аплодировать.
К противоречиям внешнего облика Брехта относилось и то, что в его фигуре было что-то аскетическое. Могло показаться, что он не голодал, а постился, намеренно воздерживаясь от того, что было предметом его вожделения. Он не был сибаритом, не воздавал должное мгновению и не растягивал удовольствие от него. Что бы он ни брал (а брал он справа и слева, спереди и сзади все, что могло ему пригодиться), он тут же пускал в дело, использовал как сырье. Процесс производства не прекращался в нем ни на минуту. Он постоянно что-то фабриковал, это было главное, что составляло смысл его жизни.
Мои тирады раздражали Брехта, особенно когда я начинал твердить, что писать нужно по убеждению, а не из-за денег; в тогдашнем Берлине такое воспринималось почти как курьез. Брехт прекрасно знал, чего хотел, он в такой мере был под властью своих идей, что ему было все равно, получал он за них деньги или нет. Наоборот, после периода материальных затруднений деньги, которые он получал, воспринимались как символ успеха. Он умел ценить деньги, для него было важно, кто их получил, а не откуда они взялись. Он был уверен, что ничто не сможет совлечь его с избранного пути. Кто помогал ему на этом пути, тот ходил в его друзьях. От других он безжалостно отрекался. Берлин кишел меценатами, они были непременной частью декораций. Брехт использовал их, стараясь не попадать к ним в зависимость.
Тирады, с которыми я на него обрушивался, не могли поколебать его убеждений. Я почти никогда не видел его одного. С ним всегда была Ибби, он, в соответствии со своей натурой, считал ее шутки циничными. Он заметил, что Ибби относится ко мне с уважением и в наших спорах с ним никогда не встает на его сторону; если она о чем-нибудь спрашивала меня в его присутствии, он старался меня припугнуть или осыпал градом насмешек. Если же Брехт ошибался иногда в какой-либо мелочи, она не позволяла сбить себя с толку и принимала мою поправку, принимала без колебаний, не моргнув глазом, но и не опускаясь до насмешливых замечаний по адресу Брехта. В его присутствии она никогда над ним не подтрунивала, из этого он делал вывод, что общение с ним ей приятно. Она тоже, на свой лад, поддалась влиянию окружавшей его навязчивой атмосферы авангардизма.
Брехт был невысокого мнения о людях, но относился к ним снисходительно, а ценил только тех, в ком испытывал нужду. На всех остальных он обращал внимание лишь постольку, поскольку они разделяли его несколько монотонное представление о мире. Оно, это представление, все больше и больше определяло характер его драматургии, в то время как в поэзии он начал писать живее и непосредственнее других своих современников и позже — об этом будет сказано в другом месте — пришел благодаря китайцам к собственному пониманию мудрости.
Как это ни странно звучит, но ему я обязан очень многим, несмотря на неприязнь, которую я к нему испытывал. В то самое время, когда почти ежедневно между нами возникали короткие стычки, я читал «Домашние проповеди». Я был увлечен этими стихами и читал их запоем, не думая об авторе. Среди них попадались вещи, которые потрясали меня до глубины души, — «Легенда о мертвом солдате», «Против соблазна», но и другие: «Воспоминание о Марии А.», «О бедном Б. Б.». Многое, почти все поражало меня. Почти все, написанное мной самим, рассыпалось в прах. Мало сказать, что я стыдился своих стихов, они для меня просто больше не существовали, от них не осталось ровным счетом ничего, даже чувства стыда за них во мне не осталось.
Уже года три мое чувство собственного достоинства поддерживалось стихами, которые я писал. Я не показывал их никому, кроме Вецы, ей, однако, я показывал почти все. Ее одобрение я принимал всерьез, ее мнению доверял. Некоторые стихотворения так переполняли меня, что я казался себе беспредельным — как космос. Я писал самые разные вещи, не одни стихи, но по-настоящему ценил только их, да еще замысел книги о массе. Но это был только замысел, работа над ним могла затянуться на годы, во всяком случае, пока я не написал еще ничего, кроме нескольких предварительных заметок и набросков да того, что я изучал в связи с предстоящей работой. Но изученное принадлежало не мне, моим собственным мыслям еще только предстояло родиться. Своими я считал несколько законченных вещей, коротких и длинных стихотворений, но теперь все это было разрушено одним ударом. Мне не было жаль того, что я написал, я без сожаления вымел сор и пыль, но я и не восторгался человеком, писавшим настоящие стихи, все в нем меня отталкивало — от пристрастия к маскараду до нескладного языка. Однако его стихами я восхищался, я любил их.