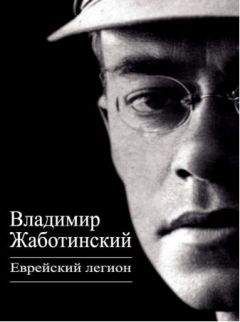Иврит возродился не по велению объективных причин, а по воле конкретных людей. И как Бен-Йегуда и Грозовский могли взять и раз и навсегда установить, какое у нас будет произношение — сефардское или ашкеназское, так и мы властны вводить в разговорную речь новые слова и «изгонять» из нее какие-то слова и обороты, улучшать наше произношение или портить его, давать ему восточные оттенки или западные. Это наша общая беда, касающаяся не только языка. Мы слишком легкомысленно относимся к тому, что мы называем «историей».
«На лингвистические темы», «ха-Машкиф», 26.4.1940.
Забота Жаботинского об уточнении и улучшении фонетики иврита интересна и с точки зрения использования в иврите латинского написания. Жаботинский нашел собственную систему такого написания и использовал ее в переписке на иврите.
«Почти в любом столкновении интересов личности с дисциплиной и подчинением я — на стороне личности».
Одним из излюбленных ярлыков всех противников Жаботинского, который они неустанно пытались наклеить на него и на его сторонников, был ярлык «фашисты». Так называть приверженцев полицейского, тоталитарного государства было весьма популярно в Европе в период между мировыми войнами. Даже рав Стефан Вайз, отнюдь не принадлежавший к числу заклятых врагов Жаботинского, заявил однажды: «Для ревизионистов, как и для фашистов, государство — это все, личность — ничто». Прочтя это, Жаботинский нарушил свой обычай не отвечать на ругань, которой его осыпали со всех сторон:
Где вы это вычитали, где услыхали, в какой из наших статей, в чьем выступлении? Как и абсолютному большинству моих товарищей, так и мне свойственна просто слепая ненависть к идее «государство — это все». И равно чужды нам и коммунизм и фашизм. Мы верим только в парламентаризм в самом «старомодном» его понимании, в парламентаризм, который зачастую так неудобен и «неповоротлив». Мы верим в свободу слова и организаций, и почти в любом столкновении интересов личности с дисциплиной и подчинением я — на стороне личности...
Что мы действительно провозглашали и провозглашаем, так это то, что стремление построить еврейское государство обязывает всех, кто признает это стремление, подчинить на время ему свои личные, групповые и классовые интересы. И Гарибальди полагал, что возрождение итальянской государственности стоит многих жертв, и Линкольн был готов пожертвовать многим ради единства Соединенных Штатов, но это не означает вовсе, что Гарибальди или Линкольн имели в виду такую Италию или Америку, где личность была бы ничем, а государство — всем.
«Повозка клейзмеров», «ха-Ярден», 8.4.1935; в сб. «На пути к государству».
Каким было отношение Жаботинского к полицейскому государству, к тоталитаризму, видно из многих глав этой книги («Индивидуализм», «Дети Царей», «Либерализм» и др.). Здесь мы приводим две выдержки из статьи, где он обрушивается на саму «идею» полицейского государства:
«Дисциплину» 19-й век принимал и ценил только для особых надобностей, в моменты исключительные, «военные», когда общество и народ стоят пред особенным испытанием, и нужно его преодолеть тут же, и сейчас же, иными словами, как горькое лекарство: во благо временным полезно, но на каждый день непереносно. Дисциплина в виде постоянной и всепроникающей атмосферы общественного и государственного быта, как это сплошь и рядом проповедуется теперь людям 19-го века, не могла бы и в кошмаре присниться. Они вообще принимали государственность только с большими оговорками. Государственная власть должна быть как перила на лестнице — если споткнешься, можно опереться, и поэтому перила обязательно нужны; но костылей для каждого шага и каждой ступеньки не нужно. Городовой полезен и хорош у себя на углу, или когда он появляется в ответ на тревожный вызов: больше нигде, не чаще и не иначе. Государственный идеал 19-го века можно определить так: «минимальное» государство, или может быть, еще резче — умеренная анархия, или по крайней мере «а-кратия». Не знаю, было ли слово «тоталитарное государство» в 19-м веке; я, во всяком случае, никогда в молодости не слыхал ни этого имени, ни всей этой проповеди. Человек 19-го столетия, вероятно, ничего более отталкивающего даже и вообразить бы не мог, чем этот запах правительственного руководства в каждом углу, словно в квартире, где у кухарки подгорела баранина, эту идею дремучей и невылазной сверхполицейской государственности.
«Бунт стариков», 1934 г. «Современные записки».
Революция и классовый строй
«Звания «революция» заслуживают лишь восстания освободительного характера».
Сегодня, как и во времена Жаботинского, тот, кто ратует за насилие в политической жизни, с гордостью называет себя революционером. Понятие «революционный» можно толковать очень широко — кровавые режимы в арабских странах тоже считают себя революционными. Жаботинский указывал на абсурдность этого явления:
Слово «революция» включает два понятия — формальное и идеологическое. В первом значении «революция» — это любая перемена в государственном устройстве, производимая насильственным путем при участии большого количества людей. Если, например, в Афганистане некий правитель сверг другого и занял его место и переворот сопровождался обильным кровопролитием, но режим практически не изменился — это тоже называют революцией. Но именно этого нельзя делать — как сказано: «Не произноси имени Моего всуе». Значение понятия «революция» определяется его идеологической стороной. Недостаточно «восстания» и его победы. Звания «революция» заслуживают лишь восстания освободительного характера, и нет «освобождения» без свободы слова, свободы объединения, свободы для каждого индивидуума избирать профессию и место жительства. Нет «освобождения» без права каждого гражданина влиять на режим, свергать его и устанавливать другой. Нет «освобождения» без равенства для всех граждан, вне зависимости от расовой, религиозной, классовой принадлежности. Таков и только таков идеологический смысл понятия «революция».
«Общественный класс» (оригинал на иврите), журнал «Бейтар», февраль 1933; в сб. «Нация и общество».
Режим классовой дискриминации, при котором один класс возвышает себя за счет гибели другого, не заслуживает, разумеется, звания «революция». Жаботинский объяснил, что такой режим — законное детище реакции:
Принцип классового различия естественно и нерасторжимо связан с реакцией и жизнеспособен лишь в ее условиях. Нелепо заявлять, что правители Советской России жестоки, кровожадны и наслаждаются репрессиями и казнями. Это — ложь и глупость: большинство из них — потомки русской интеллигенции, у которой любой вид пытки, насилия вызывал омерзение. С молоком матери они впитали отвращение к угнетению и по сей день ненавидят его всеми фибрами своей души. Если бы существовала возможность сохранить классовый строй без тюрем и убийств, они радовались бы не меньше простых граждан. Однако это невозможно, хотите вы этого или нет — невозможно. Нет иной формы для классового режима. Он может опираться исключительно на реакцию; все, что не является реакцией, становится смертоносным ядом для классового строя. Гражданское равенство? Это противоречит самому принципу классового различия. Свобода выражения? Но ведь большинство против этого, ибо класс — всегда меньшинство и никогда не будет большинством (за исключением класса пролетариата, чья основная деятельность изо дня в день все больше и больше вытесняется машиной). Свобода собраний? Но ведь ее смысл в сплочении гражданского большинства против правящего класса. Это невозможно. Насилие, угнетение — все средства реакции здесь — не случайность, не ошибка; это — не садистские извращения группы живодеров. Они — квинтэссенция, животворная сила классовой идеи. И не может классовый строй существовать, даже в обители ангелов, не опираясь на реакцию, из которой он черпает свои силы.
Там же.
Неудивительно поэтому то отвращение, с которым Жаботинский относился к классовой идее:
С субъективной точки зрения, я, разумеется, ненавижу саму классовую идею. Когда-то я уважал красный флаг, веря, что он символизирует равенство. Но в тот момент, когда нам объяснили, что его смысл — не что иное, как гегемония одной группы над всем остальным человечеством, он для меня — табу, так же, как и свастика, у которой, в моих глазах, тот же смысл — только в расовой, а не в общественно-социальной интерпретации.
«Царство Кодинка», «Хайнт», 13.10.1930; «Доар ха-йом», 23.10.1930.
Жаботинский не принимал идею избранности какого-либо класса. Однако тогда как все другие общественные прослойки стыдились заявлять о своей привилегированности, пророки «пролетариата» возвели его чуть ли не в святые: