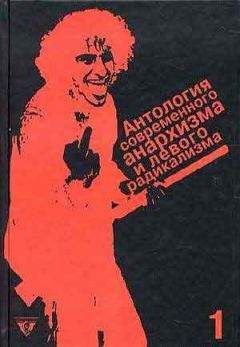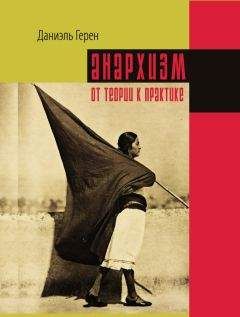Еще достаточно новое понятие дезинформации было недавно импортировано из России вместе с массой других изобретений, полезных для управления современным государством. Оно всегда «официально» употреблялось властью или «попутно» людьми, обладающими частью экономического или политического авторитета ради сохранения статус-кво, и его употреблению всегда приписывалась функция контрнаступления. То, что может противопоставить себя единственной официальной истине, разумеется, должно быть дезинформацией, исходящей из лагеря враждебного или, по крайней мере, соперничающего, и ей следует быть сфальсифицированной намеренно и по злому умыслу. Дезинформация не считалась попросту отрицанием факта, угодного властям, или простым утверждением факта, который их не устраивает, — это обычно называется психозом. В противоположность стопроцентной лжи, дезинформация — и вот чем это понятие интересно для защитников господствующего общества — должна фатально содержать определенную долю истины, но намеренно подтасованную хитрым врагом. Власть, которая говорит о дезинформации, не полагает, что сама абсолютно лишена недостатков, но знает, что может приписать всякой конкретной критике ту чрезмерную несущественность, что заключена в природе дезинформации, и, выходит, ей так и не придется сознаваться в каком-то частном недостатке.
Короче говоря, дезинформация считается дурным использованием истины. Тот, кто ее распространяет, — виновен, а тот, кто ей верит, — недоумок. Но кто же, стало быть, является этим хитрым врагом? В данном случае им не может быть терроризм, который не сопряжен с таким риском, поскольку ему отводится роль онтологически представлять собою самое грубое и наименее приемлемое заблуждение. Благодаря своей этимологии и недавним воспоминаниям об ограниченных столкновениях, которые к середине века на короткое время противопоставили Восток Западу, а сосредоточенную театрализацию — рассредоточенной, еще и сегодня капитализм включенной театрализации делает вид, будто верит, что тоталитарный бюрократический капитализм (иногда даже представляемый как отсталая тыловая база или вдохновитель террористов) остается его сущностным врагом, подобно тому, как последний будет заявлять то же самое о первом, несмотря на неисчислимые доказательства их союза и глубокой солидарности. На самом деле все типы власти, которые установились вопреки нескольким реальным локальным видам соперничества и вообще не желая об этом заявлять, непрерывно думают о том, что однажды могло бы напомнить — наряду с подрывными силами и без большого успеха в то время — о высказывании одного из редких немецких интернационалистов после начала войны 1914 года: Главный враг — в нашей стране. Дезинформация, в конечном счете, эквивалентна тому, что в дискурсе социальной войны XIX века представляли дурные наклонности. Это все, что оказывалось смутным и желало бы противопоставить себя необыкновенному счастью, которым, как всем известно, это общество стремится облагодетельствовать оказывающих ему доверие. Счастье, за которое невозможно слишком дорого заплатить разного рода незначительными осложнениями или неприятностями... И все, кто видит это счастье в спектакле, соглашаются, что не стоит скупиться, когда речь идет о его цене, а вот другие занимаются дезинформацией.
Другая выгода, обнаруживаемая при разоблачении частной дезинформации, когда ее так называют, — это то, что впоследствии глобальный дискурс спектакля якобы не будет подозреваться в том, что он содержит ее, поскольку он сам с наинаучнейшей достоверностью обозначает сферу, в которой единственно может быть признана дезинформация, а именно все, что можно говорить и что ему не понравится.
Несомненно, как раз из-за подобного заблуждения (во всяком случае, это более вероятно, чем преднамеренный обман) во Франции недавно рассматривался проект официально приписать средствам массовой информации некий вид ярлыка «свободно от дезинформации», ибо оно задевало нескольких профессионалов в «масс-медиа», которые еще хотели верить, или просто скромно уверяли, что в действительности они впредь не будут подвергаться цензуре. Но вот что самое главное: очевидно, что понятие дезинформации не должно употребляться для защиты и к тому же при неподвижной обороне, создавая нечто вроде Китайской стены, или линии Мажино, которая должна сплошь прикрывать пространство, считающееся запретным для дезинформации. Необходимо, чтобы дезинформация существовала, чтобы она оставалась текучей и могла проникать повсюду. Там, где дискурс спектакля не подвергается нападениям, было бы глупо его защищать, и само понятие дезинформации чрезвычайно быстро истрепалось бы, если бы его, вопреки очевидности, защищали в точках, которые, наоборот, должны были бы избегать привлечения внимания. Более того, у властей нет ни малейшей реальной потребности в том, чтобы обеспечивать для всех точную информацию, не содержащую дезинформации. Средств у них для этого тоже нет, ибо их не слишком уважают, и они бы только и делали, что вызывали подозрение насчет приводимой информации. Понятие дезинформации хорошо лишь в контратаке. И его нужно держать во втором эшелоне, чтобы затем мгновенно выпускать вперед, отрицая всякую только что возникшую истину.
Если иногда хаотическая дезинформация может появиться на службе некоторых частных интересов, временно находящихся в конфликте, и быть достаточно грубой, она становится неконтролируемой и тем самым противопоставляет себя работе системы не столь безответственной дезинформации, — тогда нет оснований опасаться, что в первую окажутся вовлеченными иные, более сведущие или более изощренные манипуляторы, — это происходит потому, что дезинформация сегодня разворачивается в мире, где больше нет места ни для какой верификации.
Поддерживающее путаницу в умах понятие дезинформации выдвигается на видное место, чтобы тут же одним произнесением своего имени отвергать любую критику, которая не оказалась достаточной для того, чтобы принудить к исчезновению различные управления по организации умалчивания. Например, можно было бы однажды заявить, если бы это показалось желательным, что все здесь написанное служит делу дезинформации о спектакле, или, иными словами, дезинформацией в ущерб демократии.
В противоположность тому, что утверждает ее перевернутое в спектакле отображение, практика дезинформации может служить государству лишь здесь и теперь, под его непосредственным руководством или по инициативе тех, кто защищает одни и те же ценности. На самом деле дезинформация существует внутри всякой существующей информации и выступает как ее основная характеристика. И ее объявляют дезинформацией лишь там, где посредством запугивания нужно поддерживать пассивность. Там, где дезинформация поименована, ее не существует. Там, где она существует, ее не называют дезинформацией. Тогда, когда борющиеся идеологии, что объявляли себя выступающими за или против известных аспектов действительности, еще сталкивались, имелись фанатики и лжецы, но «дезинформаторов» не было.
Тогда же, когда, из уважения к зрелищному консенсусу или, по крайней мере, из мелкого зрелищного тщеславия, больше не позволено говорить правду о том, чему противятся или на что дают согласие со всеми его последствиями; но и там, где зачастую сталкиваются с обязательствами скрывать одну сторону, которая по каким-то причинам считается опасной в том, что предположительно необходимо принять, и практикуют дезинформацию, будто бы из необдуманности, или как бы по забывчивости, или из-за мнимо ошибочных соображений. Например, в сфере протеста против существующего строя после 1968 года неспособные восстановители порядка, так называемые «pro-situs», были первыми дезинформаторами, потому что они, по мере возможности, скрывали практические проявления, где утверждалась критика, которую, как они сами хотели верить, они принимали; впрочем, вовсе не беспокоясь об ослаблении впечатления, они никогда ничего и никого не цитировали, делая вид, что обнаружили что-то сами.
XXVВместе с новыми условиями, которые в настоящее время преобладают в обществе, раздавленном железной пятой спектакля, например, становится понятным, почему политические убийства видятся в совершенно ином, как бы рассеянном, свете. Повсюду существует намного больше дураков, чем в прежние времена, но что неизмеримо удобнее — так это то, что с ними можно разговаривать безумно. И это не потому, что какой-то господствующий страх навязывает подобные объяснения в средствах массовой информации. Наоборот, именно спокойное существование таких объяснений и должно вызывать этот страх.
Когда в 1914 году, накануне неотвратимой войны, Виллэн убил Жореса, никто не сомневался в том, что Виллэн — личность, без сомнения достаточно неуравновешенная, — полагал, что должен убить Жореса потому, что, на взгляд глубоко повлиявших на Вил-лэна экстремистов правого патриотического крыла, Жорес казался, несомненно, вредоносным для обороны страны. Но только эти экстремисты недооценили огромную силу патриотического согласия внутри социалистической партии, которое бы незамедлительно подтолкнуло ее к «священному союзу», вне зависимости от того, был ли Жорес убит или, наоборот, ему бы оставили возможность остаться непреклонным в интернационалистской позиции отрицания войны. Сегодня же, ввиду подобного события, полицейские журналисты, известные эксперты «по общественным делам» и «терроризму», сразу же сказали бы, что Виллэн был известен тем, что совершал неоднократные предварительные попытки убийства, каждый раз направленные на людей, которые могли исповедовать совершенно различные политические убеждения, но все случайно физическим сходством или одеждой напоминали Жореса. Психиатры бы это удостоверили, а средства массовой информации, всегда свидетельствующие лишь о том, что им уже сообщили, ссылались бы на сам факт их компетентности и беспристрастности как экспертов с несравненным авторитетом. Затем формальное полицейское расследование могло бы в скором времени установить, что, дескать, недавно нашли несколько достойных людей, готовых свидетельствовать о том обстоятельстве, что в их присутствии этот самый Виллэн, посчитав, будто его плохо обслужили в «Шоп дю круассан», явно угрожал отомстить хозяину кафе тем, что уложит на месте перед всем честным народом одного из его самых лучших клиентов.