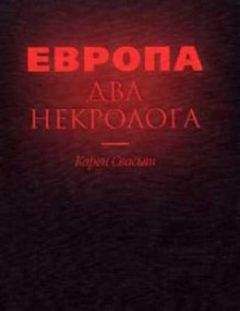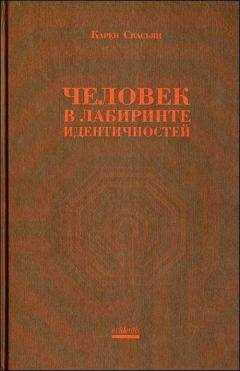После того как в игру вступает ненавидящий свободу Ариман, он затуманивает человеческое сознание до точки, где человек не воспринимает вокруг себя и в себе уже никаких Богов, а только безбожно–минеральное. В это помраченное сознание «невыносимая» свобода врывается со всех концов, поскольку она не стеснена больше никаким божественным присутствием. Пусть только спросят недоросля (всё равно, какого возраста), что может быть легче, чем хотеть чего–то, ну да, чем просто хотеть; тогда не останется никаких сомнений, что свобода — это лишь другое обозначение иллюзии. Ничто не характеризует недоросля (всё равно, какого возраста) лучше, чем убеждение, что за всяким я хочу, произнесенным им, торчит его драгоценное «Я», и что, следовательно, сам он собственной персоной является «субъектом» хотения, хотящим, чего хочется (к примеру, выиграть миллион или чтобы победила любимая команда).
Люцифер дарит свободу, но, оставаясь в Божественном, он дарит нечто, чем нельзя воспользоваться. Ариман ненавидит свободу, но, утверждая кажущееся, он впервые делает её возможной. Человек свободен там, где Божественное отступает на задний план. И поскольку Божественное нигде не отступает столь зримым образом, как в ариманически- минеральном, человек (объективно, бессознательно, инстинктивно) свободен в аримани- чески–минеральном царстве. Решающим оказывается, однако, что он, благодаря этой видимости, может не только дурачиться и сходить с ума, но и — мыслить. Но то, что он мыслит, есть видимость. Тем самым он имеет не только видимость в своем мышлении, но и свое мышление, как видимость. Декартовское: мыслю, следовательно, есмь, есть, поэтому, абсурд. Ибо своей способностью мыслить человек обязан тому обстоятельству что его при этом нет. Он мыслит, так сказать, в кредит своего собственного будущего трупа, и должен, если он честен, скорее сказать: мыслю, следовательно есмь — труп. Но когда он внутренне постигает (наблюдает, по «Философии свободы») свое мышление, ему открывается возможность получить импульс свободы. В своей объективной, сообразной миру независимости в мнимом царстве минерального он сотворяет в мыслях первое подобие удавшейся свободы. Если он к тому же способен импульсировать своими свободными мыслями свою волю, то он свободен как ВЕСЬ ЧЕЛОВЕК. Его свобода лежит тогда уже не в минеральном, а простирается на его эфирное тело, астральное тело и Я- организацию. Он изживает Божественное уже не биологически, а живет в нем мыслями. Именно, он мыслит его поначалу несуществующим, так как он нигде его не находит. Ему неведомо, что Божество следует искать не там, где его нет, в мнимом царстве Аримана, а там, где оно только и есть, именно в свободе мыслить его. Этой свободой мыслить Божественное он преображает свою кармическую подчиненность миру в умение давать миру смысл и цель.
Искушение Аримана: вместо того чтобы дарить людям свободу, преврати эти камни в хлеб! — бьет в этом смысле абсолютно мимо цели. Ариман полагает взять верх над Христом, не осознавая, что это лишь Люцифер, которого он загнал в угол. Ибо ничто не отталкивает играющего в бисер Люцифера сильнее, чем необходимость превращать камни в хлеб. В конце концов он просто не может этого. Оттого, даря людям свободу, он дает им нечто, чем они не могут воспользоваться без посредничества Аримана. Люциферическое «и будете, как Боги», читается в ариманической поправке: «которых нет». — Христос не дарит никакой свободы, он дарит СЕБЯ, как ПОЗНАНИЕ, каковое познание, будучи не учением, теорией или просто знанием, а ЧЕЛОВЕКОМ, не может не превратиться в СВОБОДНОЕ ДЕЯНИЕ. Ответ на Ариманово искушение называется поэтому — ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЕ. Иными словами: старая христианско–языческая парадигма, по которой голодающему приходится выбирать между разбойничеством и святостью, чтобы получить свой насущный хлеб либо со стола своих притеснителей, либо от Господа Бога, исчерпала себя. Подобно тому как хлеб в апокалиптически- священническом таинстве алтаря пресуществляется в тело Христово, так камни в социально–духовном причастии превращаются в хлеб. Старый отвод: не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, имеет сегодня смысл лишь в той мере, в какой из уст Божьих наряду с другими словами способно изойти и слово о хлебе. Время старых теистических ангелов, сидящих одесную своего небесного начальства, медитирующих от эона к эону и каждый раз искривляющих лик, когда речь заходит о хлебе, прошло. Новые ангелы пришли им на смену, судьба которых в гораздо большей степени зависит от того, как на земле ведется хозяйство, чем от того, что о них говорят богословы. Нужно набраться однажды мужества, чтобы отдать должное ангелологии одного сведущего политэконома, с которой нельзя даже в отдаленнейшем приближении сопоставить ни одно из традиционных учений об ангелах. Дорнах, 31 июля 1922 года (в рамках семинара по национальной экономии): «Я не могу и представить себе чего–то, что не может быть рассмотрено с хозяйственной точки зрения. Всё, вплоть до самых высоких областей, должно быть рассматриваемо с хозяйственной точки зрения.
Если какой–нибудь ангел спустился бы сегодня на землю, ему пришлось бы явиться либо просто во сне, но тогда он ничего не смог бы изменить; стоит ему, однако, явиться людям в бодрствовании, как он уже вмешивается в хозяйственную жизнь. Иначе он и не может». (Сказанное можно считать дополнением к теме: «что делает ангел в нашем астральном теле?», а именно: «в измененной обстановке». Ангелов духовной науки познают не по крыльям, рафаэлическим ликам и небесным тонам, а между прочим и по тому, что они решительно вмешиваются в хозяйственную жизнь и оспаривают у князя мира сего его привилегию единолично решать вопрос о хлебе насущном.)
Еще раз: что бы осталось от вдохновенной поэмы о Великом Инквизиторе и его потерявшем дар речи Пленнике, если бы красноречивый диалектик говорил не в пустоту, а в присутствии человека, осуществившего в своем мышлении совершеннейший мировой процесс? Разве болезнь–к–смерти христианства берет свое начало не с патологического убеждения, что христианский Бог, как Бог бедных, отверженных, больных и слабых, должен и сам быть бедным, отверженным, слабым и больным? Не удивительно, что христианское решение социального вопроса так и не вышло за рамки медико–санитарной службы по части люциферо–ариманических увечий страждущей паствы. С восходом солнца гётеанизма расслабшему христианству дан шанс не прослышать голос своего Бога: «Тебе говорю, встань!». Что есть гётеанизм в социальной проекции? Можно допустить, что книга «Основные черты социального вопроса» (1919) имеет своим источником ту же цель, что и книга «Основные черты теории познания гётевского мировоззрения» (1886): в обоих случаях речь идет об исцелении, один раз больного организма науки, другой раз больного организма действительности. Не теряться в более поздней книге, значит учиться находить себя в более ранней.
Вопрос, формулируемый в 1886 году: возможно ли развить гётевский способ познания, как уникальную способность одного, до теории познания, доступной каждому? Книга «Основные черты теории познания гётевского мировоззрения» отвечает на вопрос, возводя уникальность гётевского познания до ранга теории, в смысле гётевской же максимы: «всё фактическое есть уже теория», соответственно: факт способа познания Гёте, увиденный глазами Гёте, и есть теория познания Гёте. После этой книги гётевское искусство познания можно усваивать с такой же точностью, с какой усваивают геометрию или физику. Не следует лишь забывать, что Гёте есть не остановленное мгновение 1832 года, а некая ежемгновенно конституирующая себя из будущего встреча в настоящем. Любителям Гёте приходится выбирать между академическим скальпом и фактором мира. В последнем случае они должны будут привыкнуть к нелегкой мысли, что Гёте стал сегодня гораздо более универсальным мировым законом, чем законы природы, которые он, как естествоиспытатель, открыл при жизни. Гёте сегодня — это духочеловек Гёте, или осознавший себя в теософии гётеанизм. Попробуем представить себе метаморфоз растений в режиме феноменологической редукции, с вынесенными за скобки растениями и идеирующими их актами познания; мы получим метаморфоз, как чистую мыслимую форму превращаемости явлений, но, вопреки Гуссерлю, нев индексе трансцендентальной субъективной самосведен- ности, а в расширенности конкретного сознания до мирового свершения в ритмах и образах его непрерывного превращения. Если в 1904 году гётеанизм выступает как «Теософия», то в берлинских лекциях Штейнера 1909, 1910 и 1911 года он соответственно называется «Антропософия», «Психософия», «Пневматософия». Осенью 1913 года он носит имя «Пятое Евангелие», а на рубеже 1916/17 годов, как раз в пиковой точке истребительной войны против среднеевропейской духовности, организует эту духовность в осознании мировой «Кармы неправдивости». После краха Средней Европы, перед самим вступлением земного развития в пояс непоправимых аберраций, когда некий Солнечный Демон как с американо–большевистского Запада, так и с русско–большевистского Востока взял опекунство над миром, гётеанизм заявляет о себе, как о воле мира не потерять свою миссию. Его имя 1919 года: «Основные черты социального вопроса в жизненных необходимостях настоящего и будущего».