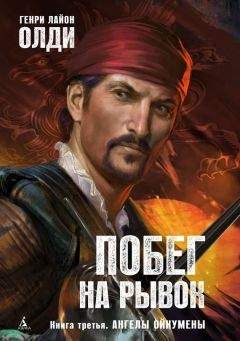– Красота! Какая красота... У вас тоже так красиво? – спросила она.
– У нас красивее…
– И река такая шумная?
– Река бешеная, Лолита. – А луна такая ясная?
– Да, и ещё очень близкая, до неба рукой подать.
– Когда кончится война? – спросила она.
– Когда мы поженимся, – сказал я.
Короче, я женился на Лолите, но впоследствии у меня допытывались:
– А почему ты женился?
Кто задавал вопрос, знал, безусловно, что перед ним сидит человек, а разве у человека спрашивают, почему он человек? Я не был уже пленным, я был любящим солдатом, и право любить я получил со дня рождения, в моём далёком селе Парзик.
Я воевал четыре года, девять раз был ранен, четырежды попадал в плен и столько же раз бежал оттуда. Мне довелось увидеть победу и одновременно услышать победный крик моего новорождённого первенца, который прозвучал вместе с последним залпом пушки. Сын как бы оповещал, что война окончена и его рождение – залог кровью завоёванного мира. В то утро глаза моей Лолиты-Назик излучали тёплую нежность материнства.
– Как мы назовём нашего сына? – прошептала она.
– Ваагн, – сказал я.
Лолите это имя ничего не говорило, но глаза под опущенными ресницами выражали согласие. Я рассказал ей легенду о Ваагне, боге Солнца.
– Небеса и Земля были
в муках родин,
Морей багрянец был
в страданьи родин,
Из воды возник алый тростник,
Из горла его дым возник.
Из горла его пламень возник, и родился тогда младенец с глазами-солнцами, и это был наш Ваагн, возникший из огненных вихрей в великих муках.
Война кончилась, я тосковал по родине, рассказывал о ней Лолите. Хотелось, чтобы она услышала наши буйные реки и оглушительные водопады, увидела бы, как брызгами рассыпается солнце на снежных макушках гор, почувствовала аромат наших цветов, мелодию наших оровелов*, нашу грусть...
Мы с Лолитой готовились к отъезду в Советский Союз.
– Поедем в наше село, Лолита, – говорил я. – Пусть наш Ваагн вырастет под армянским солнцем, на лучшей в мире родине.
Лолита радовалась, мысленно она уже перенеслась на свою новую родину, уже тосковала, торопилась и меня торопила.
– Да, пусть Ваагн растёт на своей настоящей родине, лучшей в мире.
Командование американских войск устроило прощальный банкет. Собралось всего несколько человек, потому что многие уже разъехались. Помню, я и подполковник Аветян сидели за одним столом с двумя американскими офицерами. Когда бургундское вино заискрилось в стаканах, широкоплечий офицер с сухим лицом поднял бокал.
– Выпьем за Трумэна, – сказал он.
– Выпьем за Сталина, – сказал я.
– За здоровье Трумэна, – улыбнулся он.
– За здоровье Сталина, – нахмурился я.
– Ого! – рассмеялся он.
– Да! – заупрямился я.
– О’кей! – сказал он. – Советский офицер наш союзник, и ему нельзя отказать. И он не может пренебречь нами. Не будем ссориться, – продолжил он, – давайте померимся силой и решим наш спор, как подобает настоящим джентльменам. И тогда выпьем тост победителя.
– Пожалуйста, – тут же согласился я и прикусил язык: мне никогда не приходилось заниматься боксом. Я не знал толком ни искусства кулачного боя, ни моего соперника, самоуверенного американца. Но за Сталина я боролся не только кулаками, но и оружием, и ценой жизни. Я встал. Американец тоже поднялся из-за стола. Мы скинули с себя кители. Нам открыли место, с шумом отодвинув столы, и мы приготовились к решительному бою – за первенство. Был назначен и судья.
– Ну, джентльмены, – сказал судья и ударил вилкой о пустую тарелку. – Гонг!
За первым ударом американца последовал второй, третий. От четвёртого удара я отлетел в угол кабаре. Я был оглушён и сквозь замутнённое сознание почувствовал свою беспомощность, понял, что имею дело с настоящим боксёром. После пятого удара я распластался на полу.
– Это убийство! – услышал я взволнованный голос одного из наших офицеров. – Нельзя профессионального боксёра выставлять против неопытного человека!
Судья тем временем считал: раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я вскочил и тут же был сбит с ног, снова поднялся. Зазвенела тарелка – гонг! Я тяжело дышал, точно побитая собака. Подошёл подполковник Аветян.
– Или победи, или умри, – отрезал он, – мы должны выпить за здоровье Сталина...
Второй раунд не отличался от первого. Но я всё-таки нанёс удар американцу – прямо в грудь, и у него хрустнули рёбра. Офицер глухо застонал, пошатнулся, но удержался на ногах.
На мне живого места не было, но я разгорячился и надумал во что бы то ни стало кончить наше состязание вничью. Но нет! – надо любой ценой победить. В третьем раунде мой соперник получил ещё несколько ударов, и наконец я сбил его с ног. Американский офицер поднялся только после того, как ему плеснули воды в лицо и дали глотнуть вина. Он встал, покачиваясь, приблизился к столу и взял в руки полный бокал.
– За здоровье Сталина! – сказал он.
– За здоровье Сталина! – раздались голоса по-русски и по-английски.
– За здоровье Трумэна! – сказал я.
– За здоровье Трумэна! — раздались голоса по-русски и по-английски.
***
Впоследствии у меня дотошно будут выпытывать:
– Почему ты выпил за Трумэна?
Лолита провожала меня и не переставая плакала.
– Поскорее возвращайся, дорогой, не забывай о нас. – И она протянула мне ребёнка: – Поцелуй Ваагна... а теперь меня...
Машина тронулась, через пару дней французы передали нас советским работникам спецслужбы в Берлине, и те повели нас... на допрос.
– Расскажите о себе, – сказал подполковник, лениво постукивая пальцами по зелёному сукну стола.
Я ответил не сразу, задетый холодным и неприветливым приёмом.
– Разве мои ордена и медали ничего обо мне не рассказывают?
– Не вы, а я следователь, возьмите себя в руки и отвечайте на вопросы.
– Я не преступник, и меня экзаменовала война, на её вопросы я отвечал в боях.
– Надо ещё разобраться, какие вы вели бои в плену, – съязвил он.
– Я буду жаловаться, – сказал я, – и не позволю брать под подозрение мою личность и мои заслуги.
– Мы ещё выясним, перед кем вы выслуживались, – процедил он сквозь зубы.
Беседа со следователем не сулила ничего хорошего. Я отказался отвечать на вопросы. Он нажал на кнопку звонка.
В дверях вырос солдат с автоматом.
– В карцер! – полуопустив веки, распорядился подполковник. – В карцер.
– Я буду жаловаться! – закричал я. – Слышите, вы?!
– В карцер, – устало повторил подполковник, – в карцер. Успокойте его там.
Не буду рассказывать о своих мучениях. Вам как начальнику лагеря это должно быть знакомо. Физические страдания не сломили меня, но подозрения и оскорбления доводили до исступления.
Короче, в Европу я ехал как пленный, из Европы как солдат-победитель, но всё в том же закрытом вагоне товарняка.
Мы с подполковником Аветяном долго ломали голову, хотели понять, что за напасть с нами приключилась.
–Тут какая-то ошибка, в следственные органы проникли враждебные элементы и пытаются настроить страну против своих сыновей. На месте всё прояснится, – успокаивал подполковник, а я с горечью думал, что из-за этого недоразумения затянется переезд моей семьи.
Никто, кроме деревьев, выстроившихся в почётном карауле вдоль дороги, не встречал нас. Истосковавшимся взглядом мы ласкали кусочек родины, мелькавший в зарешеченном окошке вагона. Поезд остановился, нас вывели из вагонов, ребята плакали, целовали родную землю, горсточками клали её в карманы.
Снова в ход пошли окрики и пинки.
– Марш вперёд, не задерживайся! Прекратить безобразие!
Второй допрос ничем не отличался от первого.
Я всё о себе рассказал, ответил на все вопросы, чтобы помочь выяснению истинного положения дел, потому что чувствовал: нас оклеветали. Но увы!
– Почему ты попал в плен?
– Почему не покончил с собой?
– Почему тебя не расстреляли?
– Почему ты не умер?