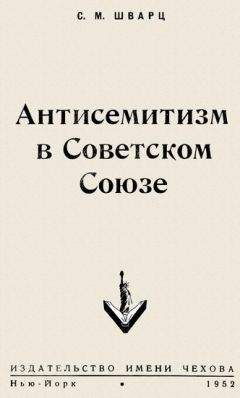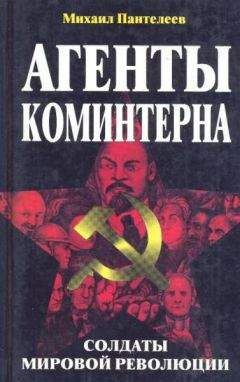А. Опекушин”.
М. М. Антокольский в то время жил в Париже. Он уехал из России сразу же по окончании петербургской Академии художеств и лишь изредка наведывался, главным образом, чтобы получить очередной заказ. Ведь в Европе своих скульпторов хватало. За границей он прожил 34 года, там и умер в 1902 году.
27 мая 1885 года он получил письмо от В. В. Стасова и тотчас же ему ответил: “Как жаль, что я не получил статьи самого Опекушина в “Новом времени”. Впрочем, мне достаточно. Чувствуется вонь из тех нескольких слов, которые вы цитируете в своем ответе. Этого достаточно, чтобы знать, что за помойную яму он вылил на меня. Я этому очень рад; надеюсь, что это возмутит каждого порядочного человека, я рад, что это дает мне возможность развить свои силы, высказать все то, что давно возмущает меня. ...Посылаю вам мой ответ на статью Опекушина... Будьте так добры, дорогой Владимир Васильевич, выправьте ее (так в письме. — Ред. ) так, как сделали с моим письмом (в “Новости”. — Ред. ), и, пожалуйста, скорее отошлите ее в редакцию”.
Коротко содержание ответа Антокольского сводилось к тому, что конкурсы собирают самых бездарных художников, лишенных таланта, творческого воображения, людей, не уверенных в себе. Нелепость такой инвективы состояла в том, что сам автор ответа обычно не пропускал ни одного конкурса в Петербурге. Другое дело, что он представлял свои модели в самый последний момент, предварительно познакомившись с работами своих соперников. И ни разу его уловка не удалась. В пяти конкурсах он проиграл Опекушину, в одном — Микешину (“Ермак”).
Не хочется особенно придираться ни к действительно прекрасному скульптору-станковисту М. М. Антокольскому, ни к великому русскому критику В. В. Стасову, но тот, кто внимательно читал их обширную переписку, изданную в 1905 году, не мог не обратить внимания на какие-то странные отношения между ними, подозрительно напоминающие соподчиненное отношение “вольных каменщиков”. Сравнительно молодой скульптор настырно обращается к человеку, что называется, пенсионного возраста (за 60 лет) с многочисленными просьбами выполнить за него всякого рода черновую работу, а то и покрикивает на него, угрожает порвать отношения и т. п.
Посланный В. В. Стасову ответ на публикацию в “Новом времени” был настолько слабо аргументированным, пропитанным желчью, что Стасов посчитал за благо не посылать его в газету, о чем он сообщил своему парижскому адресату. Не раз еще М. М. Антокольский в переписке со Стасовым, Мамонтовым и другими своими корреспондентами в России будет возвращаться к открытому письму А. М. Опекушина, понося его и тех, кто, по его мнению, стоял за его спиной — Микешина, Баринова, Чижова и других патриотов, “размахивающих картонным мечом pour la patrie”.
Конечно, не публикация письма в “Новом времени” повлияла на решение жюри о присуждении первого места А. М. Опекушину в конкурсе на проект памятника Императору Александру II. Это была заслуженная победа лучшего в России скульптора-монументалиста. Памятник был поставлен на том самом месте в московском Кремле, где сейчас стоит памятник Ленину (14).
Но почитатели М. М. Антокольского не могли простить А. М. Опекушину очередного триумфа. Жалкие пакостники пустили малограмотную эпиграмму:
Неумному строителю
Пришел неумный план:
Царю-освободителю
Построить кегельбан.
“Кегельбан” (балюстрада в виде точеных столбиков) был придуман не Опекушиным, а навязан ему камергером П. В. Жуковским и архитектором Н. В. Султановым. Скульптор постоянно жаловался на вмешательство в творческий процесс со стороны придворных сановников: “Они мучили меня своими визитами и стесняли всевозможными нелепыми указаниями”.
За свою долгую жизнь А. М. Опекушин привык к мелочным нападкам газетчиков, добровольных и наемных критиков и обычно не отвечал на их колкости. Десятки его памятников установлены на площадях и улицах больших и малых городов необъятной России — от Тарту и Ченстохова на Западе до Хабаровска на Дальнем Востоке. Чего не скажешь о памятниках М. М. Антокольского. Он не то что переоценил свой талант, он его не понял. Ему не было дано родиться монументалистом. Он силен был в станковой и мемориальной пластике, где требуются тщательная проработка деталей, изящество линий, сохранение естественных пропорций. Его работы надо было пристально рассматривать, лучше всего в помещении — в музее, на выставке или же на кладбище среди других надгробий. Его знаменитая статуя Императора Петра I, наделавшая много шума в печати, все-таки была шедевром станковой, а не монументальной скульптуры. Поставленный на постамент в Таганроге и в Архангельске бронзовый Император Петр Великий выглядит оловянным солдатиком.
И еще: М. М. Антокольский все-таки больше еврейский национальный художник. Он с детства впитал в себя нравы, обычаи, привычки обитателей еврейского квартала, изучил психологию ремесленников, мелких лавочников, доморощенных философов-талмудистов. Поэтому так впечатляют его ранние работы: “Еврей-портной”, “Скупой еврей”, “Мальчик, крадущий яблоки”, “Спор о Талмуде”.
Ко времени приезда М. М. Антокольского на учебу в Петербургскую Академию художеств он лучше владел французским языком, чем русским. Сносно читать и неграмотно писать по-русски он научился лишь в 22 года. Уехав сразу же по окончании учебы за границу, он большую часть жизни провел в Париже, наведывался в Россию лишь для получения почетных званий, заказов и участия в конкурсах. Русский язык он не знал, и поэтому объяснимо его неприязненное отношение к тем, кто исповедовал российский патриотизм. Этим же, вероятно, объясняется его широкий разброс в выборе тем и героев своих произведений. То это Барух Спиноза, то Сократ, то Мефистофель, а то вдруг Нестор-летописец или Ермак.
Всю творческую жизнь — с 1868 года по год смерти — 1902-й — М. М. Антокольский упорно трудился над горельефом “Нападение инквизиции на евреев в Испании во время тайного празднования ими Пасхи”. Один из главных героев этого сложного по композиции и исполнению произведения Натан Мудрый, выполненный в нескольких вариантах, безо всякого сомнения, послужил прототипом другого знаменитого создания М. М. Антокольского — русского Царя Ивана Грозного. Схожесть черт лица того и другого очевидна.
Может быть, никто так глубоко не осознавал истинного предназначения редкого таланта М. М. Антокольского, как великий русский критик В. В. Стасов. Когда он узнал в 1902 году, что в мастерской скульптора вновь на станке горельеф “Инквизиция...”, он пришел в неописуемый восторг: “Я полон радости! — писал он в Париж. — Вы не меняете ничего коренного, Вы не изменяете прежней своей юношеской и сильной теме. Вы ее не разжижаете, не расслабляете, не калечите — и я в великом восхищении! Vivat, ура-ура-ура! “Инквизиция” остается инквизицией, и Вы не подсовываете никакого “христианства” вместо нее”.
Что бы великому критику и другу Антокольского раньше убедить его глубже разрабатывать тему своего народа, а не вторгаться с такой настырностью в интимные национальные сферы другого народа, у которого есть свои гении и свое видение жизни в искусстве, и, может быть, тогда не было бы острых конфликтов между “демократом” М. М. Антокольским и его покровителями В. В. Стасовым и И. С. Тургеневым, с одной стороны, и “патриотами” (читай антисемитами), русофилами А. М. Опекушиным, М. О. Микешиным, М. А. Чижовым, с другой. Выиграли бы обе стороны, и не возникали бы “национальные мотивы” во взаимоотношениях бойкого на язык М. М. Антокольского с молчаливым А. М. Опекушиным. И не было бы категоричного приговора, вынесенного Опекушину в пятитомнике Игоря Эммануиловича Грабаря: “плохой техник”, “автор одного памятника” (19). И не дотянулся бы через сто лет этот вонючий шлейф аж до нас.
На бумаге в творческом споре вроде бы победил М. М. Антокольский. О нем написаны десятки увесистых томов, выпущены дорогие альбомы, изданы его газетные и журнальные статьи и даже переписка. Его прах покоится на Преображенском кладбище в Петербурге под высокой гранитной стелой, на которой высечены названия произведений М. М. Антокольского и религиозные изречения на еврейском языке.
Александр Михайлович Опекушин дожил до глубокой старости, сподобился увидеть плоды Октябрьского переворота. Все имущество бывшего крепостного крестьянина, а затем академика-”буржуя” было конфисковано. После ленинского декрета “О снятии памятников, воздвигнутых в честь Царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции” от 12 апреля 1918 года большая часть скульптур работы А. М. Опекушина была уничтожена. К счастью, сохранились его памятники Пушкину в Москве, Петербурге и Кишиневе, Лермонтову в Пятигорске, Карлу Бэру в Тарту, скульптуры, барельефы и горельефы, украшающие некоторые здания Петербурга и Москвы, мемориальные работы в Петербурге. Советская власть довела семью А. М. Опекушина до полной нищеты. Чтобы не умереть с голоду, глубокий старик с тремя дочерьми вынужден был бросить дом и уехать из Петрограда в ярославскую деревню Рыбницы, где поселился в чужом доме. Похоронен он на убогом деревенском кладбище. Во всей Советской России нашлась одна-единственная малоформатная газетка “Сельский кооператор”, которая заметила смерть скульптора и напечатала небольшой некролог. За 70 с лишним лет Советской власти о скульпторе А. М. Опекушине было издано три тоненьких брошюрки. Академия художеств СССР, в списках которой он значился, не удосужилась составить и издать хотя бы каталог обширного творческого наследия выдающегося мастера русской монументальной скульптуры. Но вернемся в восьмидесятые годы XIX века.