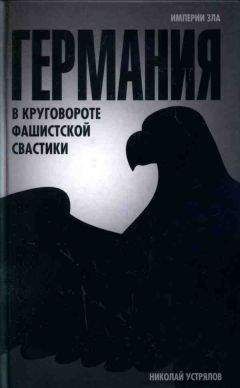страшного, соблазнительно мощного, – то подчас мелькнет в ней и длинный, гладкий хвост датской собаки…
Провел рукой и остолбенел…
Этого-то, всех клыков почище,
Я и не заметил в бешеном скаче: —
У меня из-под пиджака
Развеерился хвостище
И вьется сзади, – большой собачий… [150]
Словно старый знакомец, ухмыляющийся черт Ивана Федоровича, хочет втереться в мистерию нового действия. Но уже тем самым, что дух ее разгадал его, – недолог будет его захолустный лай…
Когда читаешь вещь Маяковского «Человек», не можешь отделаться от мысли, что интуиция поэта словно подсказала ему самому злейшему пародию на его «настоящие земные небеса»:
Эта вот зализанная гладь.
Это и есть хваленое небо!
Посмотрим, посмотрим…
«Если красавица в любви клянется»…
Здесь, на небесной тверди,
Слышать музыку Верди!.. [151]
В самом деле, разве не ползет эта музыка из всех щелей его «обетованной земли»? Разве не является она ее действительным гимном, так трогательно гармонирующим с идиллическим обликом бутылок и булок? Разве у сахарной женщины – не «сердце красавицы»?..
И снова корчится в муках «самый безобразный человек». Не дает ему покоя опустошенный Престол, и фатально тают химеры, которыми он пытается его заселить, – все эти лики Разиных, намалеванные на Царских Вратах.
И «тысячелетний старик», взглянув на звенящего побрякушками поэта, недаром сразу замечает, что в нем – «на кресте из смеха распят замученный крик»… И горько звучит его собственное признание:
Я, где боль, – везде;
На каждой капле слезовой течи
Распял себя на кресте… [152]
Это душа великой революции «искусанными губами» своего предтечи ищет новые ценности, новый берег. Это перерождающаяся земля жаждет точки опоры. И это не случай, конечно, что образы ее скорби взяты из старой, из вечной Книги…
Еще туманные, еще неясные, веют в ней тихие веяния. Третья ночь на исходе. Близок миг превращения льва в ребенка.
Я, воспевающий машину и Англию,
Может быть, просто
В самом обыкновенном Евангелии
Тринадцатый апостол.
И когда мой голос
Похабно ухает
От часа к часу целые сутки,
Может быть, Исус Христос нюхает
Моей души незабудки… [153]
Может быть… Убога обезбоженная душа. Но и в бубенцах ее арлекинад слышится великая любовь, искаженная великой пустотой. «Живая страничка из Достоевского…»
Погибнет все. Сойдет на нет.
И тот, кто жизнью движет,
Последний луч над тьмой планет
Из солнц последних выжжет.
И только боль моя острей. —
Стою, огнем обвит,
На несгорающем костре
Немыслимой любви. [154]
Как Заратустра, призывает он «страну детей», испепеленный костром немыслимой любви на пепелище разрушенного мира:
Грядущие люди!
Кто вы?
Вот – я,
Весь боль и ушиб… [155]
Опрокинутая иерархия ценностей мстит за себя. Тупо томится бунтующая материя, лишившись животворящего начала Логоса. Корчится в муках зла Люцифер, бессильный облечься в корону творца. И в судорогах готов разорвать кожу льва кривогубый Заратустра сегодняшнего дня:
Мне
Чудотворцу всего, что празднично,
Самому на праздник выйти не с кем.
Возьму сейчас и грохнусь навзничь
И голову размозжу каменным Невским… [156]
На всех путях, на каждом шагу встречается он с могуществом своего Соперника и ощущает перед ним собственное бессилие:
Вот я богохулил,
Орал, что Бога нет,
А Бог такую из пекловых глубин,
Что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
Вывел и велел —
Люби! [157]
Померкли, меркнут сусальные земли обетованные, бенгальские огоньки, полезные только для углубления бунта, для закала рождающихся воль. Срывает игрушки-латы величайший Дон-Кихот, с глади зализанной возвращается на шершавую землю и, мнимый Вседержитель, растратив душу, – ищет последней Пристани:
Ширь, бездомного снова
Лоном твоим прими.
Небо какое теперь?
Звезде какой? —
Тысячью церквей
Затянул и тянет мир:
«Со святыми упокой!» [158]
Бесконечно подлинны, плодотворны эти муки, эти корни обезбоженной, но до конца религиозной души. Сколько сил, сколько стального порыва в ней, – недаром сожгла она, сумела сжечь старый мир! О, это не хныканье мертвых плакунов, у коих в сердце мокрицы, – бесплодных и жалких теней в лету ушедшего прошлого. Это – шум бури, это – страдания циклона, крутящегося вокруг себя, взметнувшегося к небу и в брызгах свергающегося с высоты. И, верится, это – заря грядущей вселенской примиренности, обретшей Бога, перерожденной земли…
…И снова, и снова безмерно близка нам мятущаяся душа родины, взыскующая вышнего Града. Горит, сгорает она перед алтарем Неведомому Богу, ищет, не называя, Имя святое, блуждает, но и в блужданиях по-прежнему неизменна, верна себе…
Он или погибнет, как Ницше, или закричит «осанна», как Достоевский, – этот вдохновенно косноязычный поэт русской революции, ее пророк и паяц, упрямый jongleur своей Notre Dame, вместе с нею неустанно творящий ее крестный путь…
Лучше всех сумел запечатлеть он биение стальных сердец, оглушившее изумленный мир. Явственней всех почувствовал ритм громовой эпохи, разбивающей старые скрижали. Ярче всех выразил глубину исканий, самоутверждение бунтарства – и бездну творческих сомнений, льнущих к последнему якорю.
Да, воистину, так. Жутким посохом Грозного правит ныне суровая русская революция, и, трепеща, повинуются мятежной воле ее. Но придет время и, быть может, уже недалеко оно, – и, как некогда жезл Аарона, расцветет этот посох [159], и склонится притихший мир перед розой живого духа, творческой культуры, явленной народом великих страданий и великой любви…
Интервью, помещенное в «Вестнике Маньчжурии» 1 февраля 1920 г.
«Новости Жизни», 24 февраля 1920 г.
Из поэмы Пушкина «Полтава».
«Коль славен наш Господь в Сионе» – гимн Д.С. Бортнянского на стихи М.М. Хераскова (между 1790–1801), в 1856–1917 гг. его мелодию исполняли куранты Московского Кремля, в нотных изданиях сопровождался пометой: «национальный русский гимн», попытка придать ему статус государственного гимна при Временном правительстве не увенчалась успехом.
Видимо. имеется в виду Д. Ллойд-Джордж.