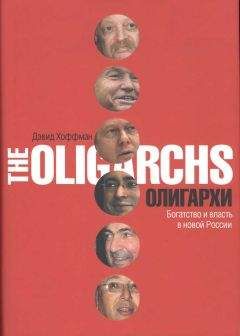В течение двадцати месяцев ваучерной приватизации цена на эту бумагу резко колебалась, повышаясь до двадцати долларов и снижаясь до четырех, главным образом из-за непредсказуемых изменений в российской политике. На станциях метро люди выстраивались вдоль стен с приколотыми к пальто табличками: “Куплю ваучеры” или “Продам ваучеры”. Ваучеры свободно обменивались, и многие миллионы были тут же обменены на бутылку водки или проданы за бесценок. По стране стали ездить маклеры, скупавшие ваучеры и чемоданами привозившие их в Москву для продажи. Реакция населения на ваучеры подтверждала основное предположение реформаторов: россияне будут реагировать на стимулы рынка и воспримут новые идеи об акциях и частной собственности. Позже Чубайс хвалился: “Можете спросить бабушку в Смоленской области, что такое дивиденды, и, думаю, она здраво объяснит, что это такое. А между тем год или полтора назад она послала бы вас с этим вопросом куда подальше”{183}.
Некоторые предприимчивые бизнесмены вскоре начали создавать ваучерные инвестиционные фонды. Чубайс и Васильев были в восторге. “Было чувство, что мы одержали победу”, — вспоминал Чубайс. Они надеялись, что инвестиционные фонды соберут ваучеры у населения, вложат их в компании, добьются хорошего управления и доходов и будут выплачивать дивиденды инвесторам. Чубайс предсказывал, что инвестиционные фонды станут идеальным вариантом для “людей, которые хотят надежно вложить деньги и получить доход”. Чубайс вспоминал, каким странным и неожиданным все это казалось. Даже в холодной Якутии, в отдаленной северо-восточной части Сибири за тысячи километров от Москвы, был создан инвестиционный фонд! Впервые услышав об инвестиционных фондах, местный чиновник был озадачен. “Я полгода ездил по тундре и раздавал ваучеры. Что же мне теперь — снова их собирать?” — спросил он у Чубайса{184}.
Первые восторги поутихли, когда Чубайс понял, что выпустил на волю непредсказуемого и ненасытного монстра. В последовавшие за этим месяцы возникли десятки, а потом и сотни ваучерных фондов, настойчиво предлагавших свои услуги. Многие ваучерные фонды создавались компаниями, пытавшимися, не привлекая внимания, скупить собственные акции. Но были и другие, независимые и активные; крупнейший московский фонд, Первый ваучерный, собрал четыре миллиона ваучеров{185}. Вскоре фонды вышли из-под контроля. Чубайс не предполагал, что их количество будет расти так быстро. В конечном итоге около шестисот ваучерных фондов собрали 45 миллионов ваучеров. Рынок, возникший без необходимых институтов, превратился в джунгли. Недобросовестные фонды обещали фантастические дивиденды, забирали ваучеры, инвесторы же не получали ничего. Их ваучеры продавали, а вырученные деньги похищали. Управляющие одного из фондов, “Нефтьалмазинвесг”, обещавшие вложить ваучеры в добычу нефти и алмазов, скрылись, похитив около 900 тысяч ваучеров. В итоге девяносто девять ваучерных фондов исчезли без следа{186}. Люди чувствовали себя обманутыми, и их действительно обманули[22]. И это было только начало.
Ваучерная программа была начата в октябре 1992 года, несмотря на огромное давление. Съезд народных депутатов, законодательный орган, собиравшийся два раза в год, должен был возобновить свою работу 1 декабря 1992 года. Новый поток критики был неизбежен, а Чубайс до сих пор не мог привести ни одного примера продажи завода. К началу съезда ему было просто необходимо иметь хотя бы один такой пример, и он обратился за помощью к западным инвестиционным банкирам.
Одним из них был президент “Креди Суисс Ферст Бостон” Ханс Йорг Радлофф, финансист, обладавший ярким даром предвидения. После краха социалистической системы Радлофф шел на большой риск, заключая сделки с боровшимися за выживание новыми государствами Восточной Европы. Он привык к уговорам со стороны премьер-министров и к принятию судьбоносных решений относительно их способности получать кредиты на мировых рынках. Радлофф, сын владельца кожевенного завода в Германии, помнивший о том, как восстанавливался их завод после Второй мировой войны, испытывал противоречивые чувства в отношении хаоса, который он видел в постсоветской России. Радлофф ясно осознавал, какое наследие оставил советский социализм. Он знал, какой абсолютной властью пользовалась в стране коммунистическая партия, какой страх она временами внушала и какой вакуум образовался с ее исчезновением. Кому достанется огромное количество заводов, шахт, магазинов, складов, оставшихся без хозяина? Радлофф сильно сомневался, что этот вопрос может быть решен рационально, но его привлекала возможность разбогатеть{187}. Первая встреча с молодыми российскими реформаторами, состоявшаяся в начале 1992 года, прошла неудачно: они отказались от предложенной помощи. Он уехал с мыслью о том, что они безнадежно наивны, и поклялся не возвращаться. Но он вернулся, потому что считал, что “нельзя упустить самый большой развивающийся рынок в истории”.
Через одного из знакомых Радлофф пригласил на работу молодого специалиста в области финансов Бориса Йордана, выходца из семьи русских эмигрантов, ярых антикоммунистов, поселившихся в Нью-Йорке. Йордан, розовощекий молодой человек с детским лицом, которому в то время исполнилось двадцать пять лет, был невероятно энергичен. Его дед воевал против большевиков на стороне белых, и Йордан мечтал о возможности поехать в Россию. Ребенком он говорил дома по-русски и сдал экзамен, позволявший поступить на дипломатическую службу. Но в Госдепартаменте ему сказали, что его никогда не пошлют в Россию в качестве дипломата. В то время он занимался сделками по продаже самолетов в Латинской Америке. “Мне нравилась атмосфера ведения переговоров, — вспоминал Йордан. — Но разве не лучше заниматься этим в стране, язык которой ты знаешь?”{188}
Радлофф нанял Йордана и отправил его в Москву. “Я предчувствую перемены, — сказал он Йордану. — Поезжай и выясни”.
Йордан поехал со Стивеном Дженнингсом, высоким тридцатидвухлетним новозеландцем с квадратной челюстью, настолько же спокойным, насколько Йордан был легко возбудимым. Дженнингс, большой спец по части политики, отличился в 1980-е годы в ходе приватизации в Новой Зеландии, участвовал в проекте Всемирного банка по реструктуризации банковской системы Венгрии, когда Радлофф предложил ему работу в Москве. “Когда я в первый раз зашел в его кабинет, у Стивена все было завалено книгами”, — рассказывал мне Йордан, вспоминая их первую встречу в Лондоне. “Он писал книги о приватизации, ему нравилась эта тема. Меня она не интересовала. Меня интересовало, как делать деньги”.
Но первые впечатления, полученные Йорданом во время ознакомительных поездок в Москву, были удручающими. Рынков еще не было. “Стивен, — сказал он Дженнингсу, — если в этой стране не появятся рынки, мне здесь нечего будет делать”.
Приехав в Москву, Йордан и Дженнингс стали часто появляться в холодных пустых офисах Госкомимущества. Приносили русским сотрудникам канцелярские принадлежности, в которых те нуждались, кофе и идеи. “Приходило много ленивых и самоуверенных инвестиционных банкиров, предлагавших свои услуги за деньги”, — рассказывал представитель одной из западных стран, находившийся там в первые месяцы. Но Йордан и Дженнингс казались другими: они все время находились поблизости. “Креди Суисс Ферст Бостон” стал оказывать помощь приватизационному агентству. “Оба под метр девяносто, всегда рядом, всегда готовы помочь”, — вспоминал о Йордане и Дженнингсе иностранный бизнесмен.
Они пришли к Чубайсу и договорились с ним о том, что консультации по первым аукционам будут давать бесплатно. Это была идея Рад-лоффа. “Ни у кого не берите денег, — говорил он своим молодым подопечным. — Если мы готовы рисковать, зная, что шансы на успех равны 20 процентам, то можно и не брать денег. Тогда они не смогут обвинить нас в том, что мы наживаемся на их провале”. “Мы решили, что не можем упустить самый большой развивающийся рынок в истории, — вспоминал Радлофф, — но мы не могли прийти на него и сказать, что собираемся делать деньги. Посмотрим, что получится через два-три года, сказал я им, о доходах не беспокойтесь”{189}.
Чубайс принял их предложение. Дженнингс был поражен, когда приехал в Москву и увидел, что всю Россию собирается распродать “крошечная группа людей, опираясь на крошечные обрывки законодательства”. Это было “похоже на первый шаг восхождения на Эверест, вот как это воспринималось”{190}.
Перед ними стояла задача организовать продажу старой кондитерской фабрики “Большевик” в Москве. Основанная в 1855 году одним швейцарским кондитером, она была позже национализирована советской властью и славилась замысловато украшенными тортами и печеньем. В течение месяца Йордан и Дженнингс, не считаясь со временем, пытались убедить и уговорить руководителей предприятия и его рабочих. За бесконечными чашками чая с печеньем Йордан объяснял основы американского законодательства — например, смысл права справедливости и значение внешнего права собственности. В результате этой первой продажи руководство и рабочие сохранили за собой 51 процент компании, а оставшиеся 49 процентов были предложены населению в обмен на ваучеры. Готовясь к важному событию, Йордан и Дженнингс построили павильон на берегу Моск-вы-реки в расчете на тысячи посетителей. Давки не было, но в первый же день пришли несколько сотен человек, чтобы приобрести акции за ваучеры. Сидя в заднем помещении, Йордан и Дженнингс взволнованно следили за ходом аукциона, глядя на экран компьютера. Они не могли поверить своим глазам. Дженнингс незадолго за этого участвовал в продаже почти такой же кондитерской фабрики в Восточной Европе, которую компания “Пепси” приобрела примерно за 80 миллионов долларов.