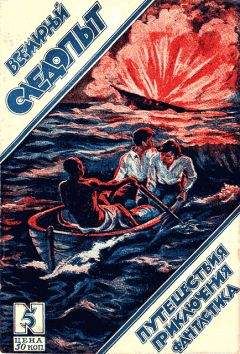Только Ночная обладает абсолютной властью. Ночью отделение закрыто, отрезано от мира. Из рук виртуозов хирургической техники, поражающих спасенных тем, что их спасли, власть над их жизнью переходит в руки Ночной. Никто не захотел пойти на эту, нечеловечески тяжелую работу, но никто и не обрел в своей жизни такой полноты власти. Эту власть можно раздуть до невероятных, ошеломляющих масштабов. Подвластные знают, что балансируют на грани жизни и смерти: необходимо снискать благосклонность владычицы, умилостивить божество. Каждый жест Ночной — олицетворение власти, символом которой, орудием, эмблемой является ночной горшок. Достаточно впасть к ней в немилость, и в коридоре под зуммер звонка, на котором значится номер опальной кровати, подкладывается трамвайный билет. Приговор вынесен, звонок обреченного номера не прозвонит. И нельзя уволить Ночную. На ее место никто не придет.
Ночную нельзя уволить, если знать ее жизнь. Про нее говорят, что последние десять лет она не смыкает глаз. «Жизнь совы» начинается в девять вечера. Она готовит первый и второй завтрак детям, которые уже спят: какао, хлеб — и все это выставляет за окно, завернув в полиэтиленовый пакет. В половине десятого вечера отправляется на работу. С десяти до шести утра — дежурство. По дороге домой она делает покупки, приходит, когда дети уже в школе, чистит картошку к обеду, заливает водой; за этим следует первый сеанс сна — до часу дня. Затем — пробуждение, приход детей, обед, уборка, шитье, дети садятся за уроки, около семи — второй, двухчасовой сеанс сна, приготовление завтрака — и все сначала. Единственное светлое пятно — прекрасная квартира, которую оставил муж, бросив ее. Как утверждают некоторые, свои беды она вымещает на больных. Главная ее беда — одиночество. Из-за этого она часто бывает неумолимой. Кое-кто подумывает о мщении. Больная № 33 попросила знакомую актрису сыграть роль цыганки. Актриса должна была пойти к Ночной и погадать ей. С помощью профессиональной гадалки составили предсказание, страшное, угрожающее, где число тридцать три должно было намекнуть, откуда придет несчастье, предвещаемое пиками и трефами — черными картами: никаких красных, никакой надежды. Трудно сказать, что было Ночной предсказано, так как больная № 33, узнав историю ее жизни, отменила визит цыганки. Испугалась, что придуманная ею ворожба может сбыться.
Вторая Дневная, Аня, иногда заключает союз с Валей против Ночной. Валя может быть недоброй, когда дело касается денег, однако часто выступает против Ночной, считая, что ее суровость бесцельна, беспричинна.
Валя уже сорок три года работает и живет в больнице. Бывает, она год-два не выходит на улицу, не видит Варшавы. Двадцать часов проводит в отделении. Без нее уже трудно обойтись, она постоянно под рукой — властная, пытающаяся управлять чужими судьбами. Один из врачей говорит: «Она хочет только, чтобы ценили ее жертвенность. Когда мы попробовали выселить ее с территории больницы, у нее не оказалось денег даже на первый взнос за квартиру. Только смерть разрешит эту проблему, освободит нас от Вали. Но что мы станем без нее делать?» Валя не меняет больным постельное белье, скупится в интересах больницы, собирает несъеденные бутерброды в холодильник и потом их продает. У нее водится спирт и апельсиновый сок из «валютного».
Сын неизлечимо больной пациентки, забирая мать домой, чтобы не умерла здесь, между Валей и Ночной, рассказал Ане по секрету, что Валя предложила ему наркотики. «Ваша мама умрет такой счастливой, какой никогда не была, отправится прямиком в рай». Аня замечает, что из города приходят какие-то люди, берут у Вали маленькие пакетики. Одну из сестер она уличила в том, что вместо болеутоляющих та иногда делает больным инъекции витаминов, а наркотики продает Вале. В образе Вали вернулось то, от чего Аня бежала сюда.
Здешние истории делятся на те, что происходят у всех на глазах, и те, что без конца рассказывают больные: эти истории заменяют книги, которых они не читают. Одна из больных рассказывает: чтобы быть в курсе дел своей дочери, она подкупает ее подружку, с которой дочка делится своими секретами. Подружка получает за информацию чулки, кофточки. Доходит до того, что дочь завидует подружкиным нарядам. Соседка больной говорит: «Как выйду из больницы, сообщу матери этой девочки, что вы ее подкупаете и развращаете, заставляя шпионить за подругой». Разражается скандал. Валя вступается за методы матери, Аня — против; начинается перебранка.
Привозят женщину со страшными ожогами. Ноги у нее облиты кислотой. Она утверждает, что ничего не помнит. Была в гостях и заснула, проснулась в больнице. Санитарки разузнали, как обстояло дело: среди участников вечеринки была ее соперница или соучастник соперницы. Женщине подсыпали в вино люминал, она уснула, появилась соперница и облила ее кислотой. Но жертва ничего говорить не хочет. «Не знаю, не знаю», — твердит. Ссылается на то, что спала. Покрывает преступницу. В коридоре появляются какие-то люди, пытаются пройти к обожженной. Валя их останавливает. Начинаются переговоры.
Аня всегда одета в черное. Родственники больных просят ее признаться, что она законспирированная монахиня из ордена с очень строгим уставом, требующим жертвовать собой ради ближних. Их интуиция ее удивляет, потому что они близки к истине, однако она все отрицает. Ее тоже нельзя уволить. Она добра к больным; это вызывает ненависть Вали и Ночной. Почему она вступает с ними в борьбу? Три года назад она была директором магазина бытовой техники. Один из руководителей управления брал в кредит у нее в магазине стиральные машины, холодильники, телевизоры, электрополотеры. Когда она продавала что-нибудь за наличные, он забирал деньги, а потом привозил документы каких-то людей. Удостоверения, справки. Кажется, ему это обходилось в 100–200 злотых. Изъятые суммы — иной раз до 50000 злотых в день — он передавал шайке ростовщиков. Начальник аккуратно выплачивал взносы по кредитам, оформленным на мертвые души, Аня же не спала по ночам. Перепробовала все виды снотворных. Ей снились клиенты — лица, знакомые только по документам; она даже прочитала книгу Гоголя.
Между тем начальник не унимался. Потребовал денег из кассы только под его личную расписку. Она отказала. Он пригрозил ей увольнением. Она ответила: «Пожалуйста». — «Я не стану вас увольнять, но жизнь испорчу». Она подала заявление об уходе, начальник отказался его подписать, так как боялся ревизии. Она закрыла магазин и повесила табличку: «Магазин закрыт из-за отсутствия персонала». Начальник сначала пригрозил, что повесит на нее убытки, потом, что сообщит в прокуратуру о самовольном уходе с работы. Ей прислали официальный приказ приступить к работе. Она не явилась. Начальник предостерег, что путь в торговлю будет закрыт для нее навсегда. Она не уступила. Тогда он ее уволил. Она осталась без работы.
— И тут я поняла: то, что случилось, было необходимо, — говорит Аня, — без этого я, наверное, никогда не исполнила бы свой обет. И на два года, оставшиеся до пенсии, решила пойти санитаркой в больницу. Для пенсии можно будет выбрать три месяца из тех лет, когда я хорошо зарабатывала.
Не думала, что испытание будет столь тяжким. Иногда я остаюсь в отделении одна. Эти «малыши» по восемьдесят килограммов — чудовищные младенцы, которых надо перепеленывать, злобные, требовательные. Бывают дни, когда в беспрестанной беготне по отделению единственное утешение — голубая плитка. Ниже нас нельзя опуститься. Он — выше всех, мы — ниже всех. Именно здесь, в особенности ночью, замечаешь абсолютное отсутствие Бога. Ведь не мы, санитарки, все это придумали. Не мы отвечаем за неизлечимость опухолей, за потерю памяти, за непрерывный сон.
Иногда просто руки опускаются, взять хотя бы больную, о которой в отделении говорят: «Это та, что не сумела покончить с собой». Когда ее привезли, она вырывалась из рук врача и кричала: «Не хочу, не хочу, не хочу жить… Не смейте меня заставлять!» Разве я не обязана быть к ней по-особому добра, иначе, чем ко всем остальным? Или фельдшер, который всем больным говорит «ты». Должно быть, услышал от кого-то из профессоров. Родственники одной больной дали ему взятку 20 злотых, чтобы он обращался к ней на «вы».
Один больной составил молитву: «Боже, если Ты не существуешь, пусть мне кажется, что Ты возник ради меня…» Ничего подобного в молитвенниках нет, потому что нет больше единого Бога, есть только такой, которого каждый создал для себя сам. И если я хоть раз сделала что-то для людей, то, наверное, это было в тот раз, когда я записала на обороте температурного листка (под рукой не оказалось другого клочка бумаги), что говорила одна больная сквозь сон. Ей казалось, что она уже умерла и разговаривает с Богом. Рассказывала Ему о своем сыне, описывала его так, чтобы Бог к нему расположился. Я все записала. Больная умерла, и ее сын понял, какое огромное событие произошло в его жизни. Никогда я так остро не ощущала, что пригодилась другим. Мне кажется, что трое самых близких мне людей, которых уже нет в живых, встречаются, их соединяет то, что происходит здесь. В одном я уверена: они к нам не придут, разве что мы пойдем к ним. А что будет там, во что нас оденут? Наверняка, в какие-нибудь лохмотья. Я становлюсь злой. Обругала больную, у меня вырываются грубые слова. Смогу ли выдержать до конца, как поклялась? Я потеряла троих: мать, дочь и брата. Мать не захотела идти в больницу, в молодости там с ней случилось что-то ужасное. Брат, поручик Армии Крайовой, участвовал в Варшавском восстании, был тяжело ранен. Его вытащила из-под развалин и на носилках доволокла до госпиталя девятнадцатилетняя санитарка, я знаю только, что подпольный псевдоним у нее был Аня: меня так зовут. Случилось это 23 августа. Он был ранен в грудь. Целую неделю она спасала ему жизнь. 29 августа бомба попала в госпиталь и убила обоих. Они лежат рядом на восьмом участке военного кладбища на Повонзках[3], где лежат повстанцы. Я тогда поклялась, что и я когда-нибудь буду делать добро, что придет время, и я сделаю для кого-нибудь то, что сделала Аня. За двадцать лет ничего не сделала. Уход из торговли стал толчком, чтобы в последние минуты деятельной жизни отдать людям хоть частичку того, что совершила та Аня.