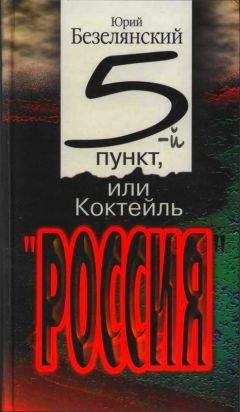В 1956 году Валентин Горянский опубликовал в Париже роман в стихах «Парфандр и Глафира». В нем он классическим пушкинским стихом представил историю трагической любви Парфандра (русской либеральной интеллигенции) и прекрасной Глафиры, символизирующей Россию. Парфандр в порыве чистого идеализма мечтает о счастливом браке с Глафирой, но ею овладевает затянутый в черную кожу брандмейстер Гросс, весьма напоминающий большевистского комиссара. Интеллигенция плачет по России, а Россия отвернулась от интеллигенции. Все это напоминает раннюю сатириконовскую публикацию Горянского про «Таню-изменницу»:
Таня вышла за виолончелиста,
Презирает теперь мою гитару семиструнную.
«Я, — говорит, — как жена артиста,
Серьезную музыку люблю и умную;
Я, — говорит, — люблю Баха и Грига,
А не романсы какие-нибудь грязные…
«Серьезная музыка» — это марксизм-ленинизм, что ли?.. Пока вы раздумываете над вопросом, представлю еще двух сатириконовцев — Аркадия Бухова и Петра Потемкина. В данном случае корни их, скажем так, нормальные. Нормальное и творчество — сатирическое, болеющее за судьбу России и ее народа. И как писал Аркадий Бухов:
Мучительно наше сегодня,
Где все — наболевший вопрос…
«Письмо редактору», 1913
Петр Потемкин — тоже уехавший. Эмигрант. У него было «очень острое чутье русскою быта, старого Петербурга, былой провинции». На его могилу (он скончался в Париже в 1926 году) друзья принесли розовую герань, которую Потемкин так любил вспоминать.
А теперь попробуем завершить разговор об эмиграции. Какие имена! Шаляпин, Рахманинов, Коровин, Бальмонт и т. д. и т. д. «Весь этот русский Ампир подавлял изобретательностью, игрой воображения, оригинальностью, новизной, пробуждал умы и веселил души», — так писал в книге «Поезд на третьем пути» блистательный сатирик и сочинитель Дон Аминадо. Читаем дальше:
«Ничего подобного история Европы до сих пор не видела. Никакой параллели между французской эмиграцией, бежавшей в Россию, и русской эмиграцией, наводнившей Францию, конечно, не было.
Французы шли в гувернеры, в приживалы, в любовники, в крайнем случае в губернаторы, как Арман де Ришелье или Ланжерон и де Рибас.
А русские скопом уходили в политику и философию, а главным образом в литературу…»
Дон Аминадо вспоминает 1917 год:
«Жизнь бьет ключом, но больше по голове.
Утром обыск. Пополудни допрос. Ночью пуля в затылок.
В промежутках спектакли для народа в Каретном ряду, в Эрмитаже. В Эрмитаже поет Шаляпин. В Камерном идет «Леда» Анатолия Каменского…
Швейцар Алексей дает понять, что пора переменить адрес.
— Приходили, спрашивали, интересовались.
Человек он толковый и на ветер слов не кидает.
Выбора нет.
Путь один — Ваганьковский переулок, к комиссару по иностранным делам, Фриче.
У Фриче бородка под Ленина, ориентация крайняя, чувствительность средняя.
— Пришел я, Владимир Максимиллианович, насчет паспорта…
— И ты, Брут?!
— И я, Брут.
Диалог короткий, процедура длинная. Бумажки, справки, подчистки, документики….
Фриче поморщился, презрел, министерским почерком подмахнул и печать поставил:
— Серп и молот, канун да ладан.
Вышел на улицу, оглянулся по сторонам, читаю паспорт, глазам не верю: «Гражданин такой-то отправляется за границу…»
Так оказался за границей «новый Козьма Прутков» Дон Аминадо. Его настоящие фамилия и имя Аминодав Пейсахович Шполянский, родом из Елизаветграда. Поэт, прозаик. Помимо псевдонима Дон Аминадо, у него была еще масса других, в том числе и Идальго. Он продолжил классическую русскую традицию юмора с его состраданием к «маленькому человеку».
«Победителей не судят, — говорил Дон Аминадо. — Их ненавидят».
Из Одессы Дон Аминадо сначала эмигрировал в Константинополь. «Все молчали. И те, кто оставался внизу на шумной суетливой набережной. И те, кто стоял наверху на обгоревшей пароходной палубе. Каждый думал про свое, а горький смысл был один для всех: «Здесь обрывается Россия над морем черным и глухим».
Дон Аминадо и за рубежом был весьма популярен. Его стихи вырезали из газет, знали наизусть, повторяли его крылатые словечки. А его афоризмы и аксиомы!
«Начало жизни написано акварелью, конец — тушью».
«Ложась животом на алтарь отечества, продолжай все-таки думать головой».
«Вставайте с петухами, ложитесь с курами, но остальной промежуток времени проводите с людьми».
Дон Аминадо жил с людьми, но люди эти были эмигрантами и отчаянно спорили о способах спасения Руси. Они оставались в плену иллюзий. А «из далекой Советчины доносились придушенные голоса…» Дон Аминадо внимательно следил за советской литературой, за коллегами пера. Они были в основном какие-то новые, какие-то уж чересчур рабоче-крестьянские. Об одном из таких он написал:
Такая мощь и сила в нем,
Что, прочитав его творенья,
Не только чуешь чернозем,
Но даже запах удобренья.
Кажется, пришло время проститься с писателями-эмигрантами и переключиться на советскую литературу. Там тоже множество имен. Много разных кровей. И много различных ароматов. Напоследок еще раз вспомним Дон Аминадо:
«…советский Космос, как и библейский Космос, возник из распутного и разнузданного Хаоса, из первобытного, бесформенного месива солдатни и матросни, и сотворение ленинского мира хотя и произошло в один день, но такие высокоценные детали, как миропомазание Маяковского, раскаяние Эренбурга и удвоенные пайки для Серапионовых братьев — все это появилось не сразу…»
Итак, советский литературный Космос. Как его разглядывать? В телескоп — крупно или в микроскоп — с мельчайшими деталями? По жанрам? Поэзия, проза, сатира… Всех чохом по алфавиту? А, может быть, выделить литераторов еврейского происхождения? Тем более что они уже мелькали на предыдущих страницах — Саша Черный, Николай Минский, Михаил Гершензон, Лев Шестов, Владислав Ходасевич, Бенедикт Лифшиц, Анатолий Мариенгоф и многие другие. Список длинный, так и хочется вспомнить Александра Куприна, который в письме от 18 марта 1909 года к Ф. Батюшкову писал, что каждый еврей родится на свет Божий с предначертанной миссией быть русским писателем. Поэт Лев Щеглов с пьяных глаз однажды сочинил:
Москва давно не третий Рим,
Она — второй Иерусалим.
С кого начать? Кто первый? Начнем, пожалуй, с российского патриарха XX века Корнея Ивановича Чуконского. Мать — украинка, отец — еврей, петербургский студент, оставивший семью, отсюда и родословные страдания бедного Корнея Ивановича:
«…A в документах страшные слова: сын крестьянки, девицы такой-то. Я этих документов до того боялся, что сам никогда их не читал. Страшно было увидеть глазами эти слова. Помню, каким позорным клеймом, издевательством показался мне аттестат Маруси-сестры, лучшей ученицы нашей Епархиальной школы, в этом аттестате написано: дочь крестьянки Мария (без отчества) Корнейчукова — оказала отличные успехи. Я и сейчас помню, что это отсутствие отчества сделало эту строчку, где вписывается имя и звание ученицы, короче, чем ей полагалось, чем было у других, — и это пронзило меня стыдом. «Мы — не как все люди, мы хуже, мы самые низкие» — и, когда дети говорили о своих отцах, дедах, бабках, я только краснел, мялся, лгал, путал. У меня ведь никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед. Эта тогдашняя ложь, эта путаница — и есть источник всех моих фалыней и лжей дальнейшего периода. Теперь, когда мне попадает любое мое письмо к кому бы то ни было — я вижу: это письмо незаконнорожденного, «байструка». Все мои письма (за исключением некоторых к жене), все письма ко всем — фальшивы, фальцеты, неискренни — именно от этого. Раздребезжилась моя «честность с собою» еще в молодости. Особенно мучительно мне было в 16–17 лет, когда молодых людей начинают вместо простого имени называть именем без отчества. Помню, как клоунски я просил всех даже при первом знакомстве — уже усатый — «зовите меня просто Колей», «а я Коля» и т. д. Это казалось шутовством, но эта была боль. И отсюда завелась привычка мешать боль, шутовство и ложь — никогда не показывать людям себя — отсюда, отсюда пошло все остальное. Это я понял только теперь».
Какое горькое признание! Сколько душевных страданий приносят эти родовые меты! У Корнея Чуковского они были одни, у других — другие. Помню, как смущался и пылал от стыда один абитуриент на приемных экзаменах и как хихикали все вокруг.
— Ваше имя-отчество? — строго спросил преподаватель.
— Саша Срульевич, — ответил юноша, и щеки его залила краска.